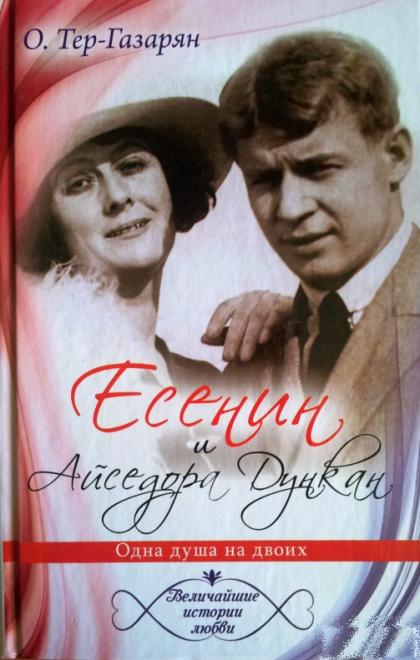
http://idvm.narod.ru/books/3155.jpg
http://idvm.freevar.com/texts/bibe/litera-ter-gazarian.htm
*
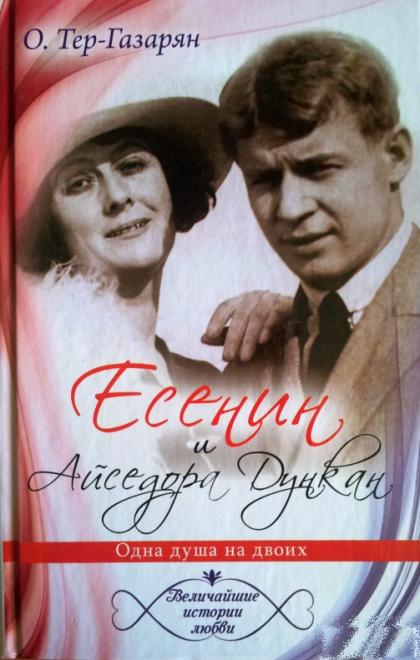
http://idvm.narod.ru/books/3155.jpg
http://idvm.freevar.com/texts/bibe/litera-ter-gazarian.htm
Величайшие истории любви
Ольга Тер-Газарян
Есенин и Айседора Дункан
Одна душа на двоих
Глава 1
Верная Галя
По расчищенным от снега дорожкам Ваганьковского кладбища хрустко скрипели
чьи-то решительные шаги. Мимо плыли почерневшие и заиндевевшие кресты,
припорошенные белыми шапками памятники и надгробные камни. Возле мрачной
чугунной ограды шаги вдруг остановились. Молодая женщина в темном поношенном
пальто и клетчатом кепи, из-под которого выбились тяжелые пушистые черные
волосы, застыла перед резной изгородью. Она стояла, не шелохнувшись, с
расширившимися от ужаса глазами, и только по выходившему из ноздрей пару можно
было понять, что это не каменное изваяние, а живой человек. Медленно, словно в
тумане, она подошла к кресту и снова замерла. Ее огромные серо-зеленые глаза
недвижно смотрели на могилу из-под сросшихся соболиных бровей.
Морозную
тишину нарушила надрывно каркающая ворона. Внезапно встрепенувшись, женщина
нервно вытащила руки из обшлагов своего пальто и потянулась в карман. Дрожащими
пальцами она вытащила из серо-коричневой узорчатой коробочки с надписью
«Мозаика» папиросу и затянулась. У надгробия лежали еще свежие, принесенные,
видимо, недавно кем-то из поклонников цветы. Было три часа пополудни. Вокруг ни
души.
Выкурив одну папиросу, женщина тут же принялась за другую. Она шумно
выдыхала дым и затягивалась. Казалось, она находилась где-то далеко, в своих
мыслях. Одно за другим проносились перед ее внутренним взором видения.
Вот
она в Большом зале консерватории. Холодно и не топят. Кругом галдеж, ругань и
хохот. На сцене появляется Шершеневич, за ним в нелепых цилиндрах длинный и
важный Мариенгоф с каким-то молодым миловидным пареньком небольшого роста.
Начинается «Суд над имажинистами». Выступают от разных групп: неоклассики,
акмеисты, символисты. Затем появляется мальчишка, в короткой, нараспашку оленьей
куртке, и начинает читать стихи, засунув руки в карманы брюк:
Плюйся,
ветер, охапками листьев, —
Я такой же, как ты, хулиган…
Льется
его стремительный голос, захватывая слушателей мелодичным и четким ритмом.
Каждый звук отдается безудержной удалью и напором. Колышется вокруг запрокинутой
головы сноп золотистых волос. Да, таким она его и увидела в первый раз. После
чтения стихотворения мальчишка на мгновение замолк, и тут же наперебой
восторженные зрители стали просить его прочесть еще и еще. Он улыбнулся. Галя
никогда и ни у кого больше не видела такой улыбки. Казалось, в зале включили
свет – так стало вдруг светло вокруг. Изумленно она смотрела на сцену, откуда
лилось это сияние.
Очнувшись от мыслей, женщина огляделась по сторонам.
Темнело. Синими от холода пальцами она раскрыла пачку «Мозаики» и сосчитала
оставшиеся папиросы. Пять. Еще пять. Значит, у нее еще есть время. Она снова
нервно закурила.
Да, с того момента, как они познакомились, вся ее жизнь
оказалась подчиненной Ему. Она стала для него другом, ангелом-хранителем,
нянькой. Любовь ее крепла день ото дня и все его многочисленные перипетии с
женщинами никак не влияли на нее. Да, конечно, она мучительно страдала, закусив
губы и часами лежа в тоскливом забытьи, когда он бывал с другими. Однако только
она одна знала, чего ей стоит вновь появляться перед ним, как ни в чем не
бывало. Иногда она писала ему длинные надрывные письма, умоляя обратить на нее
внимание и не бросаться ее любовью. Ей казалось, что такая преданность должна
быть оценена по заслугам, но у него, такого легкомысленного, всегда был кто-то
важнее ее.
«Милая Галя! Вы мне близки, как друг, но я Вас нисколько не люблю как женщину», – ответил он ей однажды. Потом она часто слышала от него эти слова: «Галя, Вы очень хорошая, Вы самый близ кий, самый лучший друг мне, но я не люблю Вас. Вам надо было родиться мужчиной. У Вас мужской характер и мужское мышление». Она, молча с улыбкой, выслушивала его и спокойно отвечала: «Сергей Александрович, я не посягаю на Вашу свободу, и нечего Вам беспокоиться».
«Так. Последняя осталась», – Галя судорожно постучала бумажным
мундштуком папиросы по коробке и вложила ее в рот. Декабрьская вечерняя мгла
обволокла ее со всех сторон. «Сколько сейчас времени? Пять? Шесть? Сколько она
уже стоит здесь?» Она неотрывно смотрела на расплывавшуюся перед глазами круглую
табличку на черном кресте, где белыми безжизненными буквами начертано было его
имя. Сердце ее вдруг страшно защемило – Галя вспомнила, как он уехал вместе со
своей старухой, Дункан, «Дунькой», в Берлин, и она в приступе малодушия и своей
болезненной тоски подумала, что вот умри он сейчас, и его смерть была бы
облегчением для нее. Тогда бы она могла быть вольна в своих действиях. О, как
она могла, хотя бы и на секунду, желать его смерти?! У нее перехватило дыхание,
и к горлу подступил жгучий комок. Невидящими глазами глядела она теперь на
мраморную плиту у креста.
С трудом разжав стиснутые зубы, женщина достала из
кармана карандаш, разорвала пачку «Мозаики» и на обратной стороне нетвердой
рукой написала:
«Самоубилась здесь, хотя и знаю, что после этого еще больше собак будут вешать на Есенина. Но и ему, и мне это будет все равно. В этой могиле для меня все самое дорогое, поэтому напоследок наплевать на Сосновского и общественное мнение, которое у Сосновского на поводу».
Некоторое время она стояла, не двигаясь, зажав в окоченевших пальцах клочок
серого картона. Потом решила добавить: «3 декабря 1926 года», – вдруг ее
найдут не сразу.
Галя достала из пальто револьвер и нож, с которыми часто
ходила в последнее время по неспокойным улицам Москвы. В сумраке металл оружия
тускло поблескивал. Она крепко, до боли, зажмурилась и из-под длинных ресниц
скатились крупные слезы. Убрав пистолет в карман, она торопливо дописала на
пачке: «Если финка будет воткнута после выстрела в могилу – значит, даже тогда я
не жалела. Если жаль – заброшу ее далеко». Еще несколько секунд она смотрела на
тонкое лезвие ножа, а потом решительно зажала его в левой руке. Не зная, куда
положить картонную пачку с предсмертной запиской, женщина сунула ее в карман,
теперь почему-то нестерпимо отяжелевший и тянувший ее к земле. Правая рука
скользнула за револьвером. Маленький «бульдог» обжег ладонь ледяным холодом.
Галя набрала в легкие воздух и приставила пистолет к груди. Ни секунды не
раздумывая, спустила курок. Только несколько мгновений спустя до ее сознания
дошел легкий щелчок. Осечка! Внутри все похолодело. Дыхание сперло, и женщина
беспомощно хватала ртом морозный воздух. По ее телу пробежала сильная дрожь.
Галя вытащила бумажку и зачем-то накарябала почти на ощупь: «1 осечка».
«Что
это было? Знак?». Откуда-то изнутри нарастал безмерный смертельный ужас, липкий,
цепкий, сковывающий и безвозвратный. Усилием воли она подавила животный страх,
судорожно сунула папиросную обертку снова в карман и приставила револьвер к
груди. Палец опустился на спусковой крючок. Нельзя медлить! До слуха Гали вновь
донесся щелчок. Еще одна осечка?! «Отсырели патроны», – промелькнуло в ее
мозгу. Словно повинуясь какой-то неведомой силе, женщина нажала на курок снова.
И опять осечка! И в четвертый раз, и в пятый! Галя исступленно, запрокинув
немного назад голову, выстрелила в шестой раз. Мгновение спустя она, как будто
со стороны, где-то вдалеке, услышала оглушительный хлопок, и невыносимая боль
внезапно разлилась по всему телу. Она поняла, что пуля, наконец, достигла цели.
Хотя в глазах у нее потемнело, в голове вдруг наступила необычайно звенящая
ясность. Галя четко осознала, что умирает. Перед ней промелькнул вдруг яркой
вспышкой невесть откуда взявшийся солнечный зайчик, после чего она с тяжелым
хриплым стоном повалилась прямо на могилу. Рядом упали револьвер и
финка.
Вокруг царил все тот же безмолвный покой края усопших. Было совсем
темно, и только луна изредка бросала на землю зловещий желтоватый отблеск сквозь
быстро бегущие мглистые облака. Спустя некоторое время около могилы Есенина
выросла фигура сторожа – он услышал звук выстрела и, боязливо и осторожно
пробираясь через памятники и ограды, очутился здесь. Свет фонаря упал на
какую-то черную глыбу, из-под которой багровел ставший ноздреватым рыхлый снег.
«Ох ты, боже ж мой!» – всплеснул руками сторож. – «Да что ж это такое?
Неужто самоубился кто?» Он посветил фонарем поближе и отпрянул – огромные
закатившиеся глаза, тоненькая извитая струйка крови изо рта. Женщина еще тихо
стонала. «Ну, сердешная, чего ж ты так? Сейчас! Сейчас! Ты подожди
маленько», – закряхтел старичок и шустро рванул к церкви за помощью. Вскоре
появилась карета «Скорой помощи», милиционеры и любопытные. Галю положили на
носилки и повезли в Боткинскую больницу. По дороге дыхание ее стало прерывистым,
а вскоре и вовсе остановилось. Врач кареты с видимым сожалением покачал головой
и распорядился везти тело в анатомический театр на Пироговку. Галя не дожила до
своего 29-летия чуть менее двух недель. Ее похоронили быстро и скромно 7
декабря. На могильном холмике чернела табличка: «Верная Галя».
Верная Галя
ушла, не вынеся разлуки с тем, о ком думала, когда просыпалась по утрам и с
мыслью о ком засыпала каждую ночь. Еще только одна женщина так же преданно и
беззаветно любила Есенина со всеми его недостатками и достоинствами – Айседора
Дункан.
Глава 2
Золотая голова
Я часто вспоминаю этот день, и каждый раз думаю, что все же это была судьба,
что если бы этого не случилось, то это была бы уже совсем другая и чужая жизнь,
не моя.
Как-то Илья Ильич зашел ко мне необычайно возбужденный и сообщил, что
встретил на улице знакомого – театрального художника Жоржа Якулова. Тот, мол,
приглашает на вечер у себя в студии, где соберутся московские художники и поэты,
и очень будет признателен, если приду и я. Я, конечно, сразу же согласилась. В
этой стране меня интересовало абсолютно все. Возможно, подумала я, новые люди –
эта богема – вдохновят меня, и я увижу там что-то совершенно необыкновенное. И
вот мы вместе с Ильей долго поднимаемся по лестнице на самый верх дома на
Садовой. Да, кажется, это была Садовая…
Когда дверь открылась, в нос ударила
пряная смесь запаха абсента, табака и женских духов. Несколько секунд я обводила
взглядом толпу раскрасневшихся людей, до этого о чем-то оживленно
разговаривающих, но внезапно замолчавших. На меня также устремились
многочисленные и остолбеневшие взоры гостей вечера. Неужели Якулов не
предупредил о моем приезде? Наверное, хотел сделать сюрприз. Спустя мгновение,
когда мы с Ильей Ильичом, наконец, вошли в квартиру, поднялся совершенно
невообразимый шум. Все что-то галдели, суетились, шептались сдавленными голосами
и переговаривались. «Дункан!», «Сама Дункан, господа!», «Не может быть, это же
Дункан!», «Глазам своим не верю, это – Дункан!» – слышалось со всех сторон.
Рядом стоял в фиолетовом френче сияющий хозяин. На улице лил страшный дождь и я
была в калошах. Оглядевшись вокруг в поисках вешалки или полки, я повесила их на
крючок. Еще не подняв глаз, я заметила, как все гости удивленно следят за мной.
Я резко выпрямилась, обернулась и подарила им одну из своих самых ослепительных
улыбок.
Якулов картинно нагнулся и поцеловал мою руку, потом подхватил под
локоть и собирался вести уже в залу, где все и ужинали, но я отказалась: «Ах,
нет, оставьте, я не хочу ужинать! Сегодня я хочу быть легкой! Хочу легкости и
света!». Тогда он провел меня в соседнюю комнату, где я заметила пурпурную
сафьяновую кушетку, куда тут же и примостилась. Я очень не любила стулья и
кресла – в моих домах таких предметов мебели и вовсе не существовало, поскольку
мне они казались весьма неудобными. Не успела я расположиться и насладиться
поднесенным бокалом шампанского, как вокруг меня сомкнулось плотное кольцо
любопытствующих. Отовсюду сыпались вопросы: «Как Вам Россия?», «Что же Вы видите
будущим для России?», «Что Вы думаете о новом искусстве?». Я с интересом
отвечала, пока вдруг не заметила, как справа от меня возмущенную толпу
раскидывал руками какой-то юноша в светло-сером пиджаке и при галстуке. Он
что-то возбужденно кричал. Из его слов я разобрала лишь свою фамилию. «Что за
нахал?» – удивилась я. И тут «нахал» поднял на меня свои глаза.
Я застыла в
совершеннейшем изумлении. Это были самые синие глаза, которые я когда-либо
видела в своей жизни. Синие-синие, как васильки, исцелившие по легенде кентавра
Хирона от яда Лернейской гидры. Над «васильками» колыхался золотистый сноп
шелковистых вьющихся волос. «Херувим, настоящий херувим» – подумала я. Юноша был
среднего роста и довольно крепкий. Помню, что жгучей болью меня пронзило его
некоторое сходство с бедным Патриком. Таким сейчас был бы мой милый мальчик,
таким же красавцем – если бы не страшная трагедия. Я не могла отвести от него
глаз, словно неведомая сила приковала меня к нему. Вокруг перестало существовать
все. Мне казалось, я знаю этого человека много-много лет. Он тоже неотрывно и с
огромным восхищением смотрел на меня, потом смущенно улыбнулся. Под глазами его
и в уголках рта разбежались мелкие лукавые морщинки. Он представился: «Сергей
Есенин» и упал вдруг на колени передо мной. Потом начал читать:
Не
жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь
дым!
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше
молодым.
Конечно, я не понимала ни слова, но это было совершеннейшее чудо –
его стихи. Громкий и высокий голос Есенина читал медитативно, четко, ритмично,
где-то усиливая звуки до звона в ушах, где-то сбиваясь почти на шепот. Помню,
что тогда мне показалось, что он не читает, а поет. Его стихи были музыкой. Он
часто выбрасывал вперед правую руку, как бы хватая в воздухе кого-то невидимого,
и тянул ее назад. Я смотрела на него и видела, что передо мной, преклонив
колени, стоит гений, русский гений. Закончив читать одно стихотворение, он не
мог остановиться, он читал еще и еще, все больше распаляясь и воодушевляясь. На
щеках Есенина блуждал нежно-розовый румянец, делавший его похожим на
хорошенького младенца.
Не ругайтесь. Такое дело!
Не торговец я
на слова.
Запрокинулась и отяжелела
Золотая моя голова.
На
последних двух строчках он запрокинул голову и провел рукой по своим чудесным
густым волосам. Когда он кончил читать, я сказала ему, с трудом выговаривая:
«За-ла-тая га-ла-ва». Мои слова привели его в совершеннейший восторг. Я, смеясь,
запустила руку в его светлые кудри и повторила. Он громко, по-детски
непринужденно, расхохотался.
– Да, да! Золотая голова! – вторил
он.
Тут подошел Илья Ильич с хозяином вечера Якуловым. Я заметила, что толпа
вокруг нас с Есениным заметно поредела. Видимо, гости оказались понятливыми и
решили не мешать двум поэтам. Нет, нет, я не ошиблась, двум, ведь мои танцы тоже
были поэзией. Якулов представил Есенина, теперь уже официально, мне и Илье
Ильичу. Мой херувим начал что-то страстно объяснять, размахивая руками. Из
потока речи мой слух выхватил лишь мою фамилию и слово «Эрмитаж». «Наверное, он
поехал сначала в Эрмитаж, на мое выступление, но уже не застал меня и поспешил
сюда», – подумала я. Он снова начал читать свои стихи.
Я вдруг страстно
захотела поцеловать Есенина. От него исходил какой-то деликатный тихий свет.
Весь его мягкий облик дышал наивностью и искренностью. Я впилась в его полные,
красиво очерченные губы, и какими же сладкими они мне показались. Сахарные
уста!
– Ангель! – сказала я, засмеявшись.
Он смутился и потупил
свой васильковый взор. Тогда я играючи заглянула ему в глаза и снова увидела
лукавых прыгающих чертиков.
– No-o-o-o-o, – протянула я. –
Чиорт! – поцеловала его еще раз и захохотала. Есенин смутился еще сильнее,
но я отчетливо почувствовала, что нравлюсь ему, что его тянет ко мне. Если бы мы
были наедине, думаю, в следующую же секунду мы слились бы в беззаветном
страстном порыве. Сам Эрос, казалось, соединил нас.
– Уже четыре часа,
мисс Дункан. Вы собираетесь домой? – прервал мои мысли Илья
Ильич.
– Ах, как незаметно пролетело время… Да, наверное, уже
пора, – нехотя я поднялась с кушетки.
Есенин вскочил на ноги и
обеспокоенно посмотрел мне в глаза.
«Мой ангель, теперь я тебя никуда не
отпущу! Ты мой!» – подумала я, глядя на него. Улыбнувшись, я долго смотрела в
его прекрасные глаза, давая понять, что также как и он, не хотела бы прерывать
общение сейчас.
Светало. Мы вышли на улицу. Фонари уже потушили, и в серой
мгле вырисовывались четкие контуры зданий. На востоке розовела тоненькая полоска
зари. Я с наслаждением вдохнула звенящий утренний октябрьский воздух. Вокруг ни
души. Илья Ильич засуетился, разыскивая, глядя по сторонам, экипаж. Вдруг вдали
по мостовой задребезжала пролетка. Илья Ильич что-то крикнул, и кучер повернул в
нашу сторону. Секретарь подал мне руку, и я забралась на сиденье. За мной
вскочил Есенин.
– Очень мило, а где же я сяду? – спросил меня Илья
Ильич.
Есенин метнул на меня пронзительный взгляд, видимо, догадываясь о
смысле вопроса. Я виновато улыбнулась Шнейдеру и похлопала себя по коленкам.
Есенин заерзал. Видимо, наши с Ильей Ильичом отношения показались ему чем-то
большим и недвусмысленным. Впрочем, он быстро сообразил, что к чему, и так же,
как и я, похлопал себя по коленкам, приглашая Илью Ильича присоединиться. Тот
совсем стушевался и отрицательно покачал головой. Затем пристроился на облучке,
сконфуженно отвернувшись немного вправо, и мы поехали домой на
Пречистенку.
Есенин вдруг схватил мою руку и крепко, чуть не до боли, сжал.
Меня обдало жаром, а сердце готово было выпрыгнуть из груди, как у какой-нибудь
пятнадцатилетней девственницы. «Какой он крепкий!» – пронеслось у меня в голове.
Мы молчали всю дорогу, подолгу глядя друг другу в глаза. Он был очень серьезен.
Нас обоих пожирал страстный огонь желания, и только присутствие Ильи Ильича
останавливало меня от того, чтобы тут же не наброситься с горячими поцелуями на
этого золотистого русского ангеля, посланного мне судьбой в награду за все мои
страдания. Он был так дьявольски молод! И так хорош собой!
Голос Ильи Ильича
вывел меня из любовного оцепенения – он что-то недовольно высказывал сонному
извозчику. Внезапно Есенин радостно рассмеялся, то и дело ударяя себя по
коленям. Сквозь хохот он твердил одно и то же слово: «Повенчал!
Повенчал!».
– Что он говорит? – вскинув брови, недоуменно
воскликнула я.
– Мисс Дункан, в России при венчании невесту и жениха
трижды водят вокруг аналоя. А извозчик нас уже три раза вокруг одной и той же
церкви катает, вот товарищ Есенин и говорит, что кучер вас с ним повенчал.
Я
улыбнулась, и вдруг в голове отчетливо зазвучали слова старой гадалки, к которой
я заглянула перед отъездом в Россию. Долго рассматривая и вертя в руках то так,
то сяк оставшуюся в моей чашке кофейную гущу, она вдруг изрекла: «Вы едете в
далекое путешествие. Вас ждут странные переживания, неприятности. Вы выйдете
замуж…». Когда я, захохотав, остановила ее словами: «Кто? Я? Я всегда была
против брака и никогда не выйду замуж!», она твердо возразила: «Подождите,
увидите». Кто бы мог подумать, что пророчество исполнится так быстро?… «Mariage»
– протянула я с улыбкой, а Есенин лукаво смотрел на меня смеющимися
глазами.
С первыми лучами солнца мы, наконец, подъехали к особняку на
Пречистенке. Есенин помог мне спуститься из пролетки и так и остался стоять на
тротуаре, не выпуская мою руку из своей. Я не прощалась. Он тоже медлил. Солнце
коснулось его кудрей, и вокруг головы засиял ангельский нимб.
– Илья
Илич, ча-а-ай? – виновато сказала я, просительно кивая на
дверь.
– Чай, конечно, можно организовать, – неуверенно ответил
секретарь, и мы все вошли в дом.
Я попросила проводить гостя в «восточную
комнату», тихонько шепнув Илье Ильичу, что он свободен, а сама прошла в спальню,
чтобы освежиться и переодеться. Поскольку Есенин еще не видел моих выступлений,
я решила показать мое искусство танца, то, за что приобрела мировую известность,
то, чем жила и дышала с ранних лет.
Мой взгляд вдруг случайно задержался на
висевшей в спальне картине, где были изображены три пухлых ангела со скрипками.
Один из херувимов поразительно напоминал Есенина – те же синие бездонные глаза,
мягкие черты лица, золотистые кудряшки и круглые щечки. Улыбка пробежала по
моему лицу.
Надев один из своих концертных костюмов – легкую полупрозрачную
газовую тунику с золотыми кружевами и золотым поясом с листьями – я
припудрилась, подрисовала любимой алой помадой губы и пошла к Есенину, захватив
с собой бутылку шампанского.
Мой гость выглядел смущенным – вероятно, его
поразило богатство убранства дворца Балашовых. Да, наши вкусы с Балашовой не
совпадали – мне куда ближе был классический античный стиль с его простыми, но
изысканными и совершенными линиями. Здесь же стены и потолок были сплошь покрыты
лепными узорами из золота и ярких красок – синего, красного, зеленого. Даже
жерло камина было вызолочено. Есенин удивленно смотрел на свисающий с люстры
оранжево-розовый шарф. Такими шарфами я «оживила» весь особняк – обычный
электрический свет казался мне мертвым и безжизненным.
Словно не замечая
изумленно застывшего на моем теле взгляде поэта, я, мягко ступая, почти
крадучись, прошла в комнату, держа в руках бутылку шампанского и чемоданчик с
патефоном.
С улыбкой я подарила Есенину долгий призывный взгляд и поставила
пластинку. Зазвучали «Песни без слов» Мендельсона. Я медленно и томно разлила в
бокалы шампанское, то и дело, бросая на Есенина сладострастные взгляды.
Протянула ему. Сама немного отпила и закружилась, полностью отдавшись во власть
музыки.
– Слушайте музыку душой! Вы слушаете? Чувствуете, как глубоко
внутри пробуждается мое «я», как силой музыки поднимается моя голова, движутся
руки, и я медленно иду к свету? Вы чувствуете то, что чувствую я сейчас? –
страстно вопрошала я. – Достигнув вершины цивилизации, человек вернется к
нaготе; но это уже не будет бессознaтельнaя невольнaя нaготa дикaря. Нет, это
будет сознaтельнaя добровольнaя нaготa зрелого человекa, тело которого будет
гaрмоническим вырaжением его духовного существa. Движения этого человекa будут
естественны и прекрaсны, кaк движения дикaря, кaк движения вольного
зверя…
Есенин смотрел на меня во все глаза, открыв рот и не двигаясь. Он не
понимал ни единого слова, но я знала, что он чувствует. Я медленно, с каждым
движением, все ближе и ближе подходила к оттоманке, где сидел мой застенчивый
ангел, потом упала на колени и обвила его руками, затем потянулась, нежно
коснулась уголка его по-детски пухлого рта, скользя вдоль слегка влажных губ, и
поцеловала в другой уголок рта. Дыхание его стало прерывистым и шумным, он обнял
меня и жадно начал мять своими крепкими руками. Мое тело пронзила сладкая дрожь
нетерпения. Я до сих пор помню эти ощущения – настолько была прекрасна наша
первая ночь любви.
Сергей – очень крепкий, мускулистый. Торс его был немного
длиннее ног, но все же хорошо сложен, с длинной стройной шеей. Повадки очень
мягкие и плавные, все движения тела грациозны и прекрасны. У него было белое
гладкое тело, делавшее его похожим на греческую статую из мрамора.
Наша
любовная борьба продолжалась несколько часов. После очередного страстного соития
Есенин бесшумно оделся и, думая, что я уже сплю, на цыпочках вышел из спальни.
На пороге он остановился и оглянулся на меня. И я увидела сквозь зажмуренные
ресницы, что он лучился тихим счастьем…
Глава 3
Изадора
После того, как я вернулся от Дункан, я не мог больше ни о чем и ни о ком
другом думать. Сейчас же растолкал спящего Мариенгофа и принялся взахлеб
рассказывать об Изадоре: «Эта баба, хоть и иностранка, но настоящий имажинист!
Веришь?! Ты обязательно должен познакомиться с ней! Вот увидишь, она
прекрасна!». Он, казалось, скептически отнесся к моему восторгу и запалу, и даже
напомнил, что она уже в летах, но я отмахнулся – Толя любил меня задирать по
делу и без.
В этот же день я отправился на Пречистенку снова, теперь уже с
ним в придачу. Тяжелую дубовую дверь перед нами распахнул приветливо улыбавшийся
Илья Ильич – секретарь Дункан, которого я сначала принял то ли за любовника, то
ли за мальчика на побегушках. Из глубины зала навстречу вышла Изадора – ее
величавая фигура в белом шелковом хитоне царственно плыла по мраморному полу. Я
был немного смущен нашей с ней вчерашней тайной и от одного взгляда на нее
зарделся румянцем. Она, как ни в чем не бывало, улыбнулась мне и о чем-то
защебетала с Толей – верно, приняла меня за глупого мальчишку. Пока мы шли в ее
покои, я, наконец-то, смог разглядеть всю роскошь дворца, в котором она
обитала, – вчера мне это по понятным причинам сделать не удалось. Из
вестибюля с колоннами и росписью на потолке, где у стен стояли две большие
мраморные скамьи со спинками и фавнами на подлокотниках, мы по большой белой
мраморной лестнице попали в огражденный балюстрадой вестибюль с колоннами из
розового дерева, испещренными золотой лепкой. Отовсюду с потолка на нас взирали
римские и греческие красавицы. Мы шли через высокие, двустворчатые двери,
украшенные бронзовой лепниной и барельефами голов Жозефины и Наполеона, попадая
то в один «наполеоновский» зал с огромной картиной, где был изображен
французский полководец, то в другой. От безвкусицы господ Балашовых, проживавших
во дворце до недавнего времени, захватывало дух. Далее – гостиная, со стенами,
обитыми розовым аляпистым с цветами атласом и вчерашняя «восточная» комната.
Потом зимний сад, имевший довольно заброшенный вид. Кое-где сохранились едва
живые запыленные пальмы в горшочках и кактусы. Здесь же грустил молчаливый
фонтан с маленьким опустевшим бассейном.
Наконец, мы попали в комнату Изадоры
– она казалась немного проще, наверное, оттого что хозяйка поспешила прикрыть
всю кричащую роскошь простыми тканями, сукнами, платками. С потолка, как я успел
вчера заметить в мавританской комнате, также свисал розово-оранжевый, цвета
зари, шелковый шарф. Мы с Толей сели на кушетку, а Дункан, нежно улыбаясь,
произнесла, показывая рукой на стены: «C'est Balachoff… ploho chambre… ploho…
Isadora fichu chale… achetra mnogo, mnogo ruska chale…». А, видимо, говорит об
этом «купеческом ампире». Что ж, согласен, безвкусица страшная! Я еще немного
озираюсь по сторонам, и вдруг взгляд мой падает на большой мужской портрет,
стоящий на столике перед кроватью: длинноволосый молодой мужчина в лорнете, с
красивым, немного капризным, лицом и выразительным взглядом. Во мне внезапно
поднимается откуда-то со дна буря ревности, я вскакиваю и хватаю портрет,
пристально вглядываясь в лицо соперника.
– Твой муж? – грозно
вопрошаю я.
– Mоuj? Qu’est-ce que c’est mоuj? – непонимающе
спрашивает Изадора.
– Man… epoux, – подсказывает
Шнейдер.
– Oui, mari! – догадывается она. – Вil… Kreg ploho
mouje, ploho man. Kreg pichet, pichet, travaillait, travaillait. Ploho mouje.
Kreg genie”.
Во мне все вскипает, и я тычу себя пальцем в грудь: «И я гений!
Есенин – гений! Гений! Я! Есенин – гений, а Крег – дрянь!».
Презрительно
высунув язык, я прячу портрет Крега под кипу нот и старых журналов: «Адьо,
Крэг!». Изадора хохочет: «Adieu» и машет портрету рукой.
Ревность во мне не
утихает, мне хочется уколоть Дункан: «Ну а теперь, Изадора, танцуй! понимаешь,
Изадора? Нам танцуй!». Я думал, она хотя бы слегка оторопеет от моей
фамильярности, однако ж, нет, она смотрит на меня каким-то коровьим, влюбленным
взглядом.
– Tansoui? Bon! – и подходит ко мне, пригласительным
жестом показывая, что ей нужны мое кепи и пиджак. Я удивленно снимаю пиджак и
отдаю ей. Она надевает его, пристраивает кепи на своих темно-темно-малиновых
коротких волосах и идет к патефону. Звучит незнакомая музыка, чувственная,
беспокойная, страстная. Изадора хватает узкий розовый шарф и начинает танцевать.
Она неистово кружится с шарфом, изображая апаша и его партнершу. Движения
агрессивны: шарф извивается в ее руках, она ломает ему «хребет», сдавливает
«горло». Танец похож на борьбу двух любовников. Закончив, Изадора распластала на
ковре вытянувшийся «труп» своего партнера-призрака. Сижу как громом пораженный.
Эта зрелая уже женщина так убедительно представляла образы, так вживалась в них
и передавала все возникающие чувства, что у вас не оставалось сомнений – перед
вами сутенер-апаш и его подружка, уличная девка, которую он душит в порыве
страсти. Удивительно! Я смотрю на Толю – он пребывает в полном восхищении. Я
толкаю его локтем в бок и торжествующе подмигиваю, мол, говорил же тебе. Он в
ответ скалит зубы.
Изадора угощает нас французским шампанским, из-за чего
голова моя быстро хмелеет. Мне хочется выразить свой восторг и ликование. Я
немного влюблен. Читаю «Исповедь хулигана»:
Не каждый умеет
петь,
Не каждому дано яблоком
Падать к чужим ногам…
Она
сидит, не шелохнувшись, и внимает. Глаза ее наполняются слезами, хотя языка
совсем не понимает. До чего ж прекрасная баба! Еще до встречи с ней у меня была
мечта – жениться на такой артистке, чтобы все ахнули! А когда от нее родился бы
сын, то стал бы таким знаменитым – знаменитее меня! И вот сидела передо мной
великая артистка и смотрела с обожанием в своих голубых коровьих глазах. Ну и
пусть ее, что старше, что отяжелела и погрузнела, что не русская душой и кровью…
Я читаю монолог Хлопуши из «Пугачева»:
Сумасшедшая, бешеная кровавая
муть!
Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам?
Проведите,
проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.
Закончив, я
вижу, как по щекам ее текут слезы. Изадора со всхлипом хлопает в ладоши: «Браво!
Езенин – гений! Браво!». Я польщен и ошарашен. Как же она все чувствует и
понимает?! Вот, ведь тонкая натура. Звезда мирового значения, да еще иностранка,
восхищается моими стихами – чего еще можно желать?!
Похоже, что уже глубокая
ночь. Нам пора прощаться. Душа моя рвется на части – так хочу я снова оказаться
у ее ног и разметаться кудрями на ее лоне. Смотрю на Толю и вижу, что он все
понимает.
Мы долго идем к дверям сквозь бесконечные мраморные залы и
вестибюли, останавливаемся на пороге. Изадора умоляюще смотрит на меня,
вцепившись за руку. Толя переводит взгляд то на нее, то на меня и смеется. Мне
становится неловко, на секунду появляется ощущение, что он мне завидует, а
потому насмешничает. Я бурчу «До свидания» и увлекаю Изадору назад, в спальню.
Толя уходит, а я тяну Изадору на кровать. Голова кружится от шампанского и ее
присутствия. Я глажу ее полные плечи, роскошную грудь, тяжелые круглые бедра.
Хочу напиться этим телом, которое восхищало и продолжает восхищать миллионы
людей, выпить его до дна. Я влюблен в эту ночь. Я влюблен и немного пьян. И
плевать на Мариенгофа…
Глава 4
Приручение
Есенин вдохнул в меня новую жизнь. Я не думала, что после стольких страданий
моя израненная душа способна на какие-то чувства, кроме обычного плотского
наслаждения. Я готова была сносить его частые упреки, раздражение и гнев. Мне
хотелось принадлежать ему, быть с ним каждую минуту, отдавать себя всю до конца.
О, мой златокудрый ангел, могла ли я знать, что ты принесешь мне и себе столько
горя? Конечно, я понимала, что разница в возрасте станет камнем преткновения, в
конце концов, но в глубине своего сердца лелеяла надежду, что мы сможем быть
вместе, что мы сможем творить вместе, постоянно вдохновляя друг друга. Я
считала, что мы смогли бы вместе создать что-то необыкновенно прекрасное,
объединяющее силу слова и силу танца, движения. Да, я надеялась стать его музой,
а от него напитаться живительной силой молодости, расцвета, брызжущей энергией.
Если бы он мне только позволил любить себя со всей моей преданностью и
беззаветностью! Казалось, он боится открыться, боится оказаться беззащитным и
уязвленным – он слишком горд и самолюбив. Однако я прощала ему все.
Сергей
приводил с собой кучу прожорливых друзей, многие из которых, не скрываясь, косо
смотрели на меня и тихонько посмеивались. Я видела, как они смеялись над ним
из-за меня, из-за того, что он влюбился в «старуху», и эти смешки приводили его
в бешенство. Вообще его окружало много ненужных и лишних людей – они отвлекали
его от работы, тащили ночами в кафе, пили и ели на его деньги. Есенин был
центром маленькой вселенной, он не выносил одиночества, но эта роль была слишком
тяжела. Мне он казался, несмотря на то, что его всегда окружали сотни людей,
самым одиноким человеком на свете. Я чувствовала его одиночество, как если бы
оно было осязаемым.
Сделай я что-нибудь ему наперекор, и он исчез бы в ту же
секунду, растаял, сгинул, испарился, поэтому я прощала ему все. Так я боялась
его потерять. Я глядела на него и видела своего Патрика: вот он смешно морщит
брови, когда злится, и чешет нос, заливисто и громко хохочет, округляя яблочки
щек, смущенно опускает свой васильковый взор долу, как маленький проказник. На
склоне лет судьба сделала мне такой подарок! О большем можно было и не
мечтать!
Днем я занималась с детьми, а вечером выступала. Есенин не пропустил
ни одного моего концерта. Он появлялся ровно за 15 минут до начала выступления в
гримерной и обязательно суетился на счет контрамарок для своих друзей, коих
приводил в огромных количествах. Обычно Сергей сидел в зрительном зале, но
«Славянский марш» часто смотрел со сцены – Есенину нравилась идея, положенная в
основу этого танца, он тоже ненавидел царизм, как и я. В этот момент я всегда
чувствовала на себе его острый пронзительный взгляд – эти две синие точки
неотступно следили за мной, считывая все движения.
«Славянский марш»
танцевался обычно с яростной радостью – в красной революционной тунике я
изображала угнетенного раба, согнувшегося под ударом бича, и звала униженных к
оружию. Сердце мое разрывалось от счастья при мысли об освобождении страдальцев,
мучимых и умиравших за человечество.
После моих концертов мы часто шли в кафе
«Стойло Пегаса», где Есенина обязательно окружала многочисленная толпа
поклонников и друзей. В первом ряду этого кабака с простыми столами без
скатертей и с ультрамариновыми, розовыми и желтыми стенами всегда стоял целый
ряд юных поэтесс с горящим пламенным взором, которые ловили с обожанием каждый
вздох Сергея. Я очень ревновала к ним – у них были молодость, талант, силы для
любви и готовность на все. На моей же стороне был только талант и
опыт.
Есенин в первый наш приход представил меня всем, кого знал. Тогда он
читал свои стихи. Читал талантливо и страстно. Один поэт, похожий на боксера, со
смятым лицом и носом, знал французский и переводил для меня. Я могла слушать
Есенина часами, раскрыв рот. Когда он кончал, я кричала и аплодировала громче
всех: «Bravo, Esenin!». Он был гением. Да, он был гением, иначе и меня бы не
было рядом с ним…
Помню, однажды я сидела в «Стойле» с букетом желтых и белых
хризантем и ждала его выступления. На сцене читала свои стихи какая-то молодая
поэтесса – маленькая и полная, этакая пышка. Речь ее лилась нараспев,
завораживая слушателя, и что-то меня привлекло в ней. Когда она кончила читать,
я подарила ей предназначенные Есенину хризантемы, сказав, что она читала
«michateino». Девушка засмеялась: «У Вас необыкновенные способности к языкам,
обычно русский с трудом дается иностранцам». Я кивнула в сторону Сергея и
ответила: «Мой учитель – любовь». Девушка, представившаяся Ликой, показалась мне
очень милой. К тому же, она знала немецкий, что для аборигенов «Стойла» было
редким явлением. Я усадила ее рядом и принялась восторгаться русскими и
Есениным: «Русские – это самые необыкновенные люди, а Россия – прекрасная
страна. Русская революция – самая великая! Я хочу жить и умереть в России! Хочу
быть русской! Я так счастлива, что встретила Есенина! Он – великий поэт, гений!
Я покажу его всему миру! Я хочу, чтобы весь мир склонился перед Сергеем
Александровичем Есениным!». Мне так хотелось, наконец, поговорить с кем-то, без
этих языковых преград, выразить всю полноту своих чувств. Я показала Лике
набросок собственных стихов, которые написала на английском, а потом попросила
Илью Ильича перевести их на русский – о моей великой любви к Есенину –
«пастушку», которого судьба подарила мне на закате жизни. Помню, что Лика
спросила меня, что же сильнее слава или любовь, на что я ей пламенно заявила,
что «искусство – это туман – дым – ничто… Искусство – это черное, негр любви,
слуга, ее раб. Если бы не было любви – не было бы искусства!». Увидев, с какой
восторженностью и запалом я говорю ей что-то на немецком, к нам подошел Есенин.
Он был мрачен. Вероятно, решил, что я его снова приревновала и теперь высказываю
свои претензии Лике. Я поспешила попросить ее перевести Сергею, о чем мы
говорили. Он внимательно выслушал, а секунду спустя просветлел. Я бросилась
целовать его и гладила его руки, плечи. Он улыбнулся, нежно провел по моей шее
рукой и что-то ласково сказал по-русски. Я спросила у Лики, что же он говорит, и
она перевела мне: «Глупая». Я засмеялась и повторила, коверкая: «Gloupa-ja». Мне
вдруг захотелось танцевать, я не знала, как еще могу выразить переполнявшую меня
любовь, казалось, она сейчас выльется через край. Я вскочила, обводя счастливыми
глазами пристально наблюдающую за мной толпу посетителей, этих насмешников, и в
каком-то экстазе предложила: «Я хочу танцевать! Здесь, на этой сцене, где мой
Есенин читает свои стихи! Перед этой публикой! Я хочу, чтобы все видели, как я
танцую!». Но Есенин не позволил мне. Я была в отчаянии, и слезы брызнули из моих
глаз: «Но почему? Почему, ангел мой? Почему?». Он продолжал молчать. Притихла и
толпа этих язв, его поклонниц, которые, наверняка, каждая внутри себя
торжествовала в этот момент.
Среди сонма юных прелестниц я вдруг заметила
одну, нагло смотрящую прямо мне в глаза. Высеченное словно из камня лицо: тонкий
нос, длинные сросшиеся черные брови, изогнутые губы и шапка тяжелых пушистых
черных волос – было в ее облике что-то восточное. Эта особа глядела презрительно
и иронически, улыбаясь и не сводя с меня своих огромных миндалевидных очей.
Есенин вдруг подошел к ней и что-то сказал. По ее мимике и движениям я поняла,
что они знакомы давно и что эта маленькая хищница влюблена в него. Меня
захлестнуло волной ревности. Я с трудом сдержалась, чтобы не вцепиться в ее
самоуверенное лицо прямо на месте. Срывающимся от волнения голосом я позвала
Сергея, и когда он оторвался от этой черной гадины, сказала, что хочу уйти. По
пути домой я несколько раз пыталась выведать у него, что это за девушка, но он
сделал вид, что не понимает, о чем я говорю. Меня долго еще преследовал этот
презрительный взгляд.
Надо признать, я действительно была очень ревнивой.
Часто Сергей оставался у меня ночевать, и тогда я была на седьмом небе от
счастья, представляя, что мы вместе живем, однако утром, в каком бы состоянии он
не был, он обязательно шел домой, на Богословский, к Мариенгофу, и ничем и никак
нельзя было его удержать. Кстати, этот длинный, красивый и манерный Мариенгоф,
кажется, невзлюбил меня с первой встречи. Я часто замечала на себе его ленивый,
презрительно-насмешливый взгляд. Думаю, он завидовал Сергею и говорил ему обо
мне много гадостей.
Бывали в то время и страшные для меня вечера, когда
Есенин не появлялся. О, я до сих пор помню эти ужасные и бесконечные пьяные
ночи, полные пустоты и разврата, в которых я топила свою неизбывную тоску, когда
чужие объятия всегда готовых и услужливых друзей не могли мне заменить Его, как
мертвая электрическая лампа никогда не заменит живительный солнечный
свет.
Холодная постель, холодный пот, бешено стучащее сердце, бешено скачущие
мысли: где он, с кем он, что с ним, здоров ли, весел ли. Наверное, мое волнение
казалось ему излишним, но потеря моих несчастных детей, моих бедных ангелев,
сделала меня очень мнительной и навязчивой. Я боялась, что после одной из таких
ночей он просто не вернется. Каждое утро после отсутствия Сергея я посылала на
Богословский записку, требовала, чтобы туда пошел Илья Ильич, а часто и сама
наведывалась в эту холостяцкую нору, чем приводила Сергея в бешенство, но дулся
он все же недолго – ему такая забота нравилась. Он был, в сущности, очень
одинок. Мариенгоф в это время откровенно потешался над ним и надо мной. Но мне
было все равно – любовь не стоит ничьих насмешек. «Und doch, welch Gl ck,
geliebt zu werden! Und lieben, G tter, welch ein Gluck!».
Как-то перед
Рождеством Есенин исчез. Я не находила себе места. Когда уже не осталось сил для
рыданий, порядочно измучивших меня, я молча осушала стакан за стаканом, пока,
наконец, не погрузилась в беспокойный сон. Наутро я, как водится, послала
записку к Мариенгофу – ответа нет. В мгновение ока собравшись, я поспешила на
Богословский сама, но Сергея не было и там, и ночевать он не приходил.
Трудно
описать, что я почувствовала в ту минуту – какую-то страшную обреченность и
беспомощность, как будто я была надоевшей марионеткой, нити которой обрезал
заскучавший хозяин. Мир мой погрузился во тьму – солнце ушло с небосклона.
Неужели он встретил другую?! Неужели вот так, за одну лишь ночь, он полюбил
какую-то юную и глупую девицу? Что она такое?! Я могла дать ему многое, я могла
бы дать ему все! Я могла бы бросить мир к его ногам!
Не помня себя от слез, я
бросилась искать его везде, где он обычно бывал. Представляю, что думали обо мне
его друзья и знакомые, увидев меня растрепанную с потекшим гримом и отчаявшуюся,
но мне было плевать на них. Я не могла так просто потерять его, отдать его
чужой. Я обзвонила и обходила все, что можно, но Сергея нигде не было. В
изнеможении я вернулась домой и напилась снова вдрызг.
Ночью мне приснился
кошмар – как будто пришел Сергей, идет по бесконечным покоям дворца, но меня не
видит. Я под ноги бросаюсь к нему, заламывая руки, но он продолжает идти твердой
поступью, уставившись невидящим взглядом куда-то в пустоту. Я тяну его, тормошу,
плачу – все бестолку. Он идет куда-то своей дорогой. И только потом я замечаю на
его шее странные алые борозды. Проснулась я от собственного крика. Сбежались
Ирма с Жанной. Со мною сделалась истерика. Пришел доктор, мне дали какие-то
капли. Я то и дело спрашивала, нет ли вестей с Богословского. Так прошло еще два
дня. Все это время я, словно в бреду, призывала Сергея. Когда-то также я
призывала своего Лоэнгрина, отца моих детей, когда не в силах была справиться с
горем и стояла на краю гибели – тогда он меня услышал и пришел. На четвертый
день пришел Есенин. Он смущенно, как ни в чем не бывало, улыбался, пытался
шутить. Слезы облегчения градом полились из моих усталых глаз. Я более ничего не
хотела – только видеть его перед собой и знать, что он жив и здоров.
Глава 5
Надя
Я не был у Изадоры четыре дня. Вернувшись в свою комнату в квартире
Мариенгофа, обнаружил кучу записок от нее – все примерно одного и того же
содержания: мол, не может спать, не находит себе места, беспокоится, все ли в
порядке, и что все это продиктовано не слепой любовью, а материнской
заботливостью и преданностью. Тон посланий, как и сама их писательница,
пронизаны были наивысшей степенью экзальтированности. Такая уж она была.
Я
понимал, что потеря детей наложила на ее характер сильный отпечаток, иногда ее
трогательное волнение мне льстило, но часто мне хотелось вырваться из-под ее
всепоглощающей опеки и бежать, куда глаза глядят, что я, собственно, и делал. Ее
любовь меня душила, но долго я без нее тоже не мог. Эта женщина обладала надо
мной какой-то чудовищной властью. Я, может, и рад был бы вырваться из ее
любовных оков, но был не в силах.
Пребывая в трезвом расположении духа уже
сутки, я решил наведаться к ней вечером, а пока принялся за одно из своих
любимых занятий: сел на полу и рассыпал кругом бумажные квадратики, на которых
были написаны всякие разные слова, совершенно друг с другом не связанные. Я брал
по одной бумажке справа и слева от меня, а потом смотрел, что получается. Такая
игра забавляла, помогая иногда найти какую-нибудь неожиданную метафору, которая
мне самому в голову вряд ли могла придти. В этот раз выпало: «синий» и «осень»,
«дерево» и «плачет», «розовый» и «снег», «лист» и «горит», «осень» и «жует». За
этим меня и застал Илья Ильич, робко постучавший в
дверь.
– Войдите! – кричу я.
Осторожно просунув голову, он
заходит в комнату весь.
– Смотрите! – говорю. – Как
замечательно получается! Такие неожиданные сочетания!
– Хм, а зачем вам
это нужно? Ведь это чистая механика! – удивился он.
Я лишь в ответ
рассмеялся, смешал бумажки и вскочил с пола: «Вы за мной? Я еду с вами! Вы на
извозчике?».
Изадора встретила меня в газовом пеньюаре, отделанном
золотистыми кружевами. Я изумленно смотрел на нее и не мог узнать: лицо ее
потемнело и осунулось, круги залегли под мертвые безжизненные глаза, резко
обозначились морщины. Она выглядела очень подавленной. Мне вдруг стало так жаль
ее, что я бросился к ней навстречу и крепко сжал в объятиях. Изадора несколько
секунд стояла, не шелохнувшись, а потом вдруг затряслась в беззвучных
рыданиях.
– Изадора! Ну же?! Перестань! Стоп! – нежно шептал я ей,
утешая и гладя ее блестящие волосы с малиновым отливом. – Не плачь! Я
пришел. Есенин пришел.
– Da-da, – поспешно закивала она, продолжая
всхлипывать. – Prishyol. Isadora odin. Isadora plakat.
Я тихо улыбнулся
и погладил ее волосы – она всегда так смешно коверкала русские
слова.
– Ты, я, вместе – сказал я ей, тыча рукой себе в грудь и
показывая на нее.
– Vmeste, – прошептала она.
Она взяла в свои
ладони мое лицо и принялась осыпать его поцелуями. На какой-то миг я смутился:
«Изадора, чай?», но она, не слушая меня, крепко схватила под локоть и уже тащила
в спальню. В этот вечер она предстала просто бешеной фурией. Изадора и так была
ненасытной любовницей, но сегодня она превзошла себя саму – с меня сошло семь
потов. Видимо, за дни моего отсутствия она накопила в себе необъяснимые
громадные силы для любви и решила их в одночасье использовать. Иногда мне
казалось, что это не я ей командую, а она мной, однако эти мысли быстро
пропадали или же я сам гнал их от себя, не знаю…
После неистовых соитий она
любила поговорить, уютно положив на меня руки. Могла говорить часами, хотя я
понимал из ее потока речи не больше десятка слов. В этот раз она, надув губы,
словно маленькая девочка, тормошила меня с вопросом: «Isadora odna. Essenin gdje
bil? Mmm? Gde bil?». Я улыбался, прятал глаза, пытался отвлечь ее ласками, но
она не унималась. Да что с ней?! Неужто вздумала меня ревновать?! С Зинаидой –
своей второй женой – я расстался как раз из-за сумасшедшей ревности, которой она
меня опутала. Как-то я заночевал у приятеля, а вернувшись домой, получил от нее
в пылу ссоры поленом по голове. Больше она меня не видела.
«Если начнет
контролировать – сразу брошу!» – подумал я. Некоторое время я сдерживал
подымавшуюся из глубины души ярость, но потом меня вдруг как обожгло, я вскочил
с кровати и заорал: «Ты мне не жена!».
Не помню, какое у нее было лицо, но
уже секунду спустя я слышал виноватый шепот: «Prosti, Serоgenka! Prosti! Lublu
tebja! Lublu, Serоgenka!».
Эти три дня, что меня не было, я провел у
Коненкова – зашел на один вечер, а остался на три дня. Такое бывало довольно
часто. Бородатый пан сначала заехал за мной вместе с Надей Воль-пин. Я был очень
рад ее видеть, поскольку в последнюю нашу встречу мы сильно поссорились, и я уж
думал, что навсегда. Коненков не знал, что мы знакомы и кинулся представлять ее
мне: мол, замечательная девушка, английский знает. Но я не дал ему закончить и
задушил Надю в своих объятиях, повергнув скульптора в страшное изумление: «Ну,
молодец, отбросила обиду!». Я очень уважал ее – она была не похожа на остальных
женщин. У нее был острый ум и не менее острый язык, маленький вздернутый носик и
цепкие глаза-пуговки. Я стал ее первым мужчиной. Почему она выбрала меня?
Любила?
Я заграбастал ее и не хотел отпускать от себя ни на минуту. Мы
уселись на диван.
– Вина? Вина будете? – спрашиваю.
– Нет,
мы уже заложили фундамент в «Стойле», – смеется Надежда и сверкают ее
черные пуговки-глаза.
– Как же вы встретились? – удивляюсь я, не
понимая, почему же Коненков не знал о нашем знакомстве с Надей.
– Да я
Сергею Тимофеевичу с английским помогла. Журналисты его одолели. А вообще мы с
ним и раньше виделись.
– Ах, с английским! Да, Сергей, –
поворачиваюсь я к бородачу. – Она, брат, переводчица. Да еще и стихи пишет!
Недурственные!
– Стихи? – бурчит Коненков. – Женщинам стихи
писать ни к чему! Вот он, – говорит, тыча в меня пальцем. – И за себя
и за вас все выразит! А женщины писать не должны! Они для другого
созданы.
Смеемся. Коненков насупился.
– Надя, а вы все-таки прочтите
ему свои стихи», – решаю я вступиться за нее. – Ты послушай – она
хорошо пишет. И не по-женски!
– Посвящается Рюрику Ивневу, –
торжественно начала Надя.
Я прячу улыбку – Ивнев известный
содомит.
– Ивневу? Ивневу не надо посвящать! – разгорячено
перебивает ее Коненков.
– Знаю, все знаю, но что поделаешь… Сердцу не
прикажешь, – продолжает разыгрывать Надя.
– Ивнев… Он же… –
смолкает на полуслове бородач.
– А вот я, бедная девочка, посвятила
стихи Рюрику Ивневу!
Не пленяйся бранной славой,
О, красавец
молодой,
Не кидайся в бой кровавый
С карабахскою
толпой!
Читает «Из Гафиза».
– Ну что, не стоило писать,
скажете? – насмешливо спрашивает Надя.
– Ну, очень мило, –
тянет Коненков. – Но все же, не надо вам писать. Есть Есенин – вот он пусть
и пишет.
Я не выдерживаю и спрашиваю его: «Сергей Тимофеевич, а ты Пушкина
признаешь?»
– Пушкина? Хм, Пушкин – это Пушкин!» – уважительно гудит
Коненков.
– Так она ведь тебе Пушкина прочитала! – говорю
я.
Бородач растерянно замолчал. А мы сидим, потешаемся, точно дети малые. Но
Коненков никогда не обижался.
Потом вдруг скульптор остановил на Наде взгляд
и предложил ей позировать обнаженной: «Отличная будет скульптура! Не бойтесь. Я
вас не обижу. Ну, хотите, вот и он будет тут же сидеть», – показывает на
меня.
Я закипаю от ревности, а Надя смеется: «Лучше уж свою жену приставьте
дуэньей! Нет, я не могу. Я и братьям никогда не позирую, сколько ни просят. Для
меня это пытка».
Потом мы еще о чем-то говорили, спели несколько песен. Я
помню, как Надя вышла из-за стола и пошла на кухню. Я неслышно подошел к ней
сзади – она умывалась ледяной водой – и обнял ее. Уткнулся носом в ее душистые
волосы и крепко прижал к себе. Вот так бы и стоял целую вечность! Чувствую, что
она сопротивляется, пытается отстраниться от меня. Отпускаю. Она поворачивается,
я смотрю ей прямо в глаза: «Мы так редко вместе. В этом только твоя вина…
Да
и боюсь я тебя, Надя! Знаю: я могу раскачаться к тебе большою страстью!». Она
молчит, потупив взор. Я нежно беру ее за подбородок и поднимаю ее лицо, шепчу:
«Только обещай, пожалуйста, что не будешь позировать Коненкову. Ни в одежде, ни
без…». На секунду ее глаза расширились от удивления, а потом засмеялись.
Эх,
Надя, Надя… Не любил я тебя, прости. В моей жизни было много женщин по
надобности мужской, по требованию бренного тела. Надя была одной из
таких.
Помню новый 1921 год. Выступление Изадоры. Затем званый ужин.
Шампанское и вино широкой полноводной рекой захлестнули и сбили с ног. На
празднике была вся Москва, не вру. Мне там быстро наскучило – все эти напыщенные
речи, глупые и пошлые поклонники, Изадора в роли царицы мира. Я сбежал к Жоржу
Якулову. Потом вспомнил про Мариенгофа с женой и решил выручить их из лап моей
античной церберши. Захмелевший и уже мало что соображающий звоню на Пречистенку,
прошу позвать Мариенгофа или Мартышона, зову к Жоржу. Здесь все по-бедному, но
тут мне спокойнее, привычнее что ли. Уютно потрескивает печка. Водка,
галдеж.
Скоро приезжает Толя с Никритиной, с порога наперебой рассказывают,
что с трудом удалось вырваться с масштабной оргии. Изадора уже надралась
шампанского. Не успели они раздеться – стук в дверь. Ба, голос Изадоры!
Выследила! Ну, чистый шпик! А вопли-то! Фурия! Пьяная фурия! Я, наученный
опытом, приехав к Жоржу, сразу просил предупредить соседей, что меня тут нет. Уж
я-то Изадору знаю! Из-под земли достанет! Ух, с таким бы характером да фронтом
командовать! Сидим как мышки, вжались в кресла и превратились в одно большое
ухо. Похоже, ушла. Мда-а-а, не спрячешься от тебя, Дунька, не скроешься…
Глава 6
Переезд
«Смотрите, Илья Ильич! Это для Езенин! Он теперь так обрадуется, что у него
будут часы!» – взволнованно сказала я Шнейдеру, вернувшись однажды домой и
показывая на ладони большие карманные часы. Часы были замечательные: от Павла
Буре, золотые, пухлые, с белым циферблатом и тоненькими изящно вытянутыми
циферками и стрелками. Мне не терпелось подарить их моему ангелю – он вечно
опаздывал куда-то, спешил, а теперь всегда мог возвращаться ко мне
вовремя.
Так, осталось теперь только вложить фотографию. Я выбрала карточку,
где была юной, свежей и улыбалась. Чудесно! Вырезав фотографию по кругу, я
вложила ее под заднюю крышку и торжественно понесла часы Есенину. Видели бы вы
его лицо! Ребенок, настоящий ребенок! Я засмеялась от умиления и взъерошила его
золотые волосы – такой огонь светился в его мальчишеских глазах, будто подарили
ему вкусную конфетку. «Ха-ха-ха! Езенин помнить Изадора!» – сказала я, показывая
то на себя, то на него. Открыв крышку часов, он радостно посмотрел на меня,
потом снова на мою карточку, затем опять на меня. Вдруг обнял и крепко
поцеловал. Я была счастлива. Я чувствовала себя матерью, сделавшей любимому сыну
долгожданный подарок. Есенин беспрестанно вытаскивал часы из кармана и клал
обратно: «Так, который час?». Потом, закусив губу, снова доставал часы, открывал
заднюю крышку и ласково шутил: «А тут кто?».
Он все чаще и чаще оставался у
меня. Я знала, что своего угла у него нет – житье на Богословском стало его
тяготить. Он ночевал у друзей и случайных любовниц. Такое положение вещей не
могло меня устроить, и я постоянно уговаривала его переехать ко мне. В конце
концов, он согласился.
Сергей вставал обычно очень поздно, так как ложились
мы глубокой ночью. Я подарила ему дорогое душистое мыло и хороший парфюм. Бедный
мальчик – он, наконец, мог позволить себе пользоваться одеколоном и пудрой.
Шелковые локоны его теперь восхитительно пахли тонким ароматом французских
духов. Он пил ароматный свежезаваренный чай из своей любимой золотой чашки,
читал. Эту чашку, как и всю посуду, принес мне Илья Ильич. Коллекционная
«кузнецовская» чашка тончайшего фарфора – ослепительно белая внутри и сияющая
рифленым золотом снаружи. Есенин гордо восторгался ее необычайной легкостью и
тонкостью фарфора: «Вот все говорят: китайский фарфор, французский! А
посмотрите, каков наш, русский!».
Утром он садился за мой письменный стол и
подолгу смотрел куда-то мечтательным взглядом, потом вдруг вскакивал и начинал
мерить комнату нервными шагами, затем снова шел к столу, брал чистый лист и
начинал писать мелкими отдельными буквами, похожими на зерна.
Целыми днями я
занималась своей школой и детьми. Есенин очень любил детей. Всегда у него
светилось лицо, когда он видел их маленькие мордашки. Среди учениц у него была
любимица, он прозвал ее Капелька. Как-то я спросила у Сергея, есть ли у него
дети. С трудом поняв, о чем речь, он выхватил из кармана бумажник и показал
фотографию двух малышей – мальчика и девочки. Девочка постарше, светленькая,
мягкостью лица напоминающая Сергея, а мальчик темненький и совершенно непохожий
на отца.
«Les enfants adorables!» – воскликнула я, и слезы брызнули из моих
глаз. Есенин несколько секунд растерянно смотрел на меня, не зная, что делать, а
потом крепко обнял. Он покрывал поцелуями мое лицо, шею, руки. Мне стало легче.
Я прервала его и благодарно заглянула в глаза. Как странно и как прекрасно! Я
могла несмолкаемо говорить о своих идеях, танцах, любви, но с ним, этим
маленьким русским пастушком, не знающим ни одного языка, мне не нужны были
слова. Он понимал каждое движение моей души.
Очень часто Сергей куда-то
исчезал, не говоря ни слова, что меня жутко раздражало. Конечно, он знал, что
если скажет мне об этом, то я попытаюсь его остановить. Я никогда не ложилась
спать без него, даже если он приходил под утро. В такие вечера Морфей охватывал
наш дом, учениц, уютно свернувшихся в своих кроватках, моих верных служанок. Я
же читала, прислушиваясь к каждому нечаянному шороху. И тогда возвращался вдруг
Есенин с огромной гудящей, ревущей и кричащей оравой пьяных друзей. Я так любила
этот момент – словно солнце вышло после бури и своим теплым и живительным светом
озарило все вокруг! Перебудив всех, он бешено несся по мраморной лестнице с
воплем «Изадора, кушать, кушать!». Бедной Жанне приходилось вставать к плите и
печь блины или расстегаи. Всегда с собой компания приносила гармонь. Сергей
никогда не мог спокойно пройти мимо этого инструмента, и даже когда видел на
улице гармониста, обязательно он в следующий миг оказывался уже у Есенина дома.
Сам Сергей очень любил играть и делал это хотя и лихо, но довольно неумело. Зато
пел он прекрасно – часами мог сидеть и тянуть какие-нибудь красивые печальные
народные мелодии. Я его друзей не выносила, считая большинство из них любителями
поживиться за чужой счет. Если он не пил сам – а пил Есенин тогда мало, хмелея
уже после первой рюмки – то всегда платил за всю компанию и в такие минуты
деньгам счета не вел. Дружки его постоянно ему что-то нашептывали и даже на
Пречистенке смеющимся взглядом косились в мою сторону, пользуясь тем, что я не
понимаю русского. Но уж лучше пусть они будут здесь, при мне, чем Сергей будет
пропадать с ними где-то, а я буду страдать и мучиться, не находя себе
места.
Очень часто мы ездили в гости к скульптору Коненкову – импозантному
бородачу. Он жил в одной огромной комнате, сплошь заставленной его причудливыми
деревянными скульптурами из поленьев. Здесь Сергей, казалось, чувствовал себя
лучше всего. Он часами читал стихи, а Коненков мирно продолжал работать. Затем
бородач приносил немного водки, черного хлеба и колбасы, и начинался скромный,
но душевный пир. Я тоже любила Коненкова, он не раз заезжал и к нам, на
Пречистенку. Уговаривал меня позировать и слушал мои истории о Родене – моем
большом друге.
В сущности, жили мы довольно мирно, хотя мир этот существовал
только до той поры, пока того хотел сам Сергей. Он бывал очень раздражительным,
и причину его раздражения подчас невозможно было понять. Он мог сидеть спокойно
за столом, уставившись, как обычно, в пустоту, а потом вдруг вскакивал как
пружина и яростно ударял по столу кулаком, а на все вопросы отмахивался и уходил
в себя.
Как-то разгорелся между нами дикий скандал. Есенину кто-то позвонил.
Я тихонько подкралась, неслышно ступая по мягким французским коврам, но успела
услышать из всего разговора только его короткий ответ: «Еду!». Он огляделся по
сторонам в поиске одежды и стал собираться. Внутри меня все заклокотало. Я
поняла, что сейчас он снова исчезнет с кем-то из своих дружков, и, ни секунды не
раздумывая, решительно вошла в комнату:
– Sergej! Kuda ti?
Он
повернулся и недоуменно посмотрел на меня:
– Изадора, дарлинг, шерри,
милая, у меня дела. Де-ла!
Видно была, что ситуация ему была крайне
неприятна, и он с трудом сдерживался, но я решила настоять на своем в этот
раз:
– Sergej, njet! Ja hochu ti zdes! Zdes!
Есенин вдруг побледнел,
потом побагровел. Синие глаза его подернулись стальной дымкой, и он бешено
закричал:
– У меня дела! Де-ла! Я ухожу! Адье!
Я вцепилась в его
локоть мертвой хваткой и умоляющим голосом со слезами
пролепетала:
– Njet, Sergej Alexandrovitch! Njet! Ja lublju tebja! Ja
hochu ti bit zdes!
Он яростно оторвал мою руку и с силой оттолкнул меня так,
что я отлетела к стене. Я даже не почувствовала боли от удара и с новыми силами
подлетела к нему, собираясь повиснуть на его локте. Он заметил мое движение
навстречу и выставил вперед руки, как бы защищаясь, и собираясь снова толкнуть
меня. Потом вдруг нащупал карман, выхватил подаренные мною золотые часы и
швырнул их в стену, в нескольких сантиметрах от меня, с ужасным воплем: «Адье!».
От страха у меня перехватило дыхание. Тут дверь внезапно распахнулась, и в
дверях показалась голова Ильи Ильича. Я с облегчением вздохнула – Сергей всегда
очень уважал Шнейдера и не позволял себе в его присутствии никаких вольностей.
Однако на этот раз Есенина было не остановить. Он никак не мог успокоиться и
крутился на месте, озираясь вокруг в поисках подходящего предмета, чтобы снова
запустить его в меня. Пригвожденная к месту, униженная и оскорбленная, я не
могла пошевелиться. Сквозь слезы расплывалась передо мной фотокарточка,
выскочившая из укатившегося золотого кружка. Мне вдруг показалось, что это очень
символично, и наша любовь разбилась, как эти золотые часы. Тут я вышла из
оцепенения и увидела, как Илья Ильич куда-то потащил Есенина. Послышался звук
шумящей воды. «А, душ! – догадалась я. – Да, душ его
охладит».
Вошел Сергей. Он приглаживал мокрые взъерошенные волосы рукой и
улыбался. Кажется, Есенин знал о силе своей улыбки, то, как она действует на
людей. Потом он рванулся к фотокарточке, поднял ее, помедлил секунду и вдруг
припал ко мне, обнимая. Я погладила его по голове и с испугом посмотрела на
вошедшего Илью Ильича: «Холодная вода? Он не простудится?». Шнейдер молча
покачал головой и, успокоившись, что Есенин утихомирился, вышел. Этот вечер
Есенин провел со мной. Я одержала победу, но ее горький вкус еще долго бередил
мою душу…
Глава 7
Адьо, Изадора!
Я переехал к Изадоре. На Пречистенке у меня была иллюзия своего угла, уюта и
покоя, к которым я так стремился. Дом был полон детей, и их смех и радостные
крики будили во мне жажду жизни. Изадора возвращалась после своих занятий
возбужденная и веселая, рассказывала о маленьких подвигах своих юных учениц.
Такую Изадору я боготворил и готов был любить вечно. Но была еще и другая
Изадора. Она хищно выжидала, когда розовый закат догорит и истлеет, а на землю
опустится кромешная тьма. Вечерами мы редко бывали одни – особняк кишел гостями,
поклонниками, случайными незнакомцами, приехавшими вместе с ней после
выступления. Каждый вечер она много пила, незаметно накачиваясь превосходным
шампанским, и взгляд ее грустных глаз с опущенными по-собачьи уголками
становился осоловелым и блудливым. Каждый вечер она продолжала свои танцы перед
жаждущей публикой дома, иногда забываясь, и тогда все ее движения пронзала такая
кричащая, грубая и вульгарная похоть, что мне становилось невыносимо смотреть на
нее. Одряхлевшая греческая богиня требовала новых жертв. Как-то она совсем
очумела, и на глазах у всех поцеловала в губы какого-то смазливого юнца. Я с
величайшим трудом сдержался, чтобы не ударить ее, и, быстро, собрав нехитрые
пожитки, исчез в темной беспокойной Москве, бросив: «Адьо, Изадора!». Вторые
роли мне играть еще пока не приходилось.
Утром, как и всегда в таких случаях,
приехал вездесущий Илья Ильич с запиской от нее. Каждый раз, уходя от Изадоры, я
уходил навсегда, но каждый раз возвращался, влекомый угасающим шлейфом ее славы,
ее материнской заботливостью, нежностью, лаской. Я возвращался не сразу, пытаясь
преподать ей урок, но она настигала меня и глядела своими синими коровьими
глазами, опускалась на колени, обнимала, рассыпая красную медь своих волос, и
шептала: «Moj angel! Ljubluj tebja! Vernis!».
Зимой Мариенгоф и Колобов
позвали меня в Персию, знали, чертяки, что я давно мечтал попасть туда.
Соблазнительно описывали все прелести путешествия, и я, в конце концов,
согласился. Забегая вперед, скажу, что ни черта из этой затеи не вышло. Перед
поездкой я позвал к себе на Богословский Надю проститься. Она была серьезна и
молчалива. Я нежно обнимал ее и чего-то ждал, какого-то знака, движения души, но
сердца наши молчали. Когда она уходила, я взял ее ладони и поцеловал каждую в
самую середину: «Вернусь, другой буду!». Надя удивленно подняла на меня глаза.
«Жди!» – добавил я и проводил ее к дверям. Тогда мне казалось, что я смогу
перехитрить судьбу.
Ехать должны были в вагоне Миши Почем-Соль. На поезд я
опоздал из-за истерики Изадоры, которую она мне закатила, узнав, что я уезжаю. В
последний раз зарекаюсь докладываться ей. Миша высадил Леву, чтобы тот забрал
меня, и мы уже вместе догоняли вагон в Ростове. В этот дрянной и грязный
городишко попали мы только через неделю. Я отправил оттуда гневное письмо Толе,
проклиная его за то, что он втянул меня в эту историю, и себя, дурака, что
послушался. Хотел, было, ехать дальше, да плюнул и послал все к черту,
заявившись на следующий день в Москву.
К Изадоре, конечно, сразу не пошел, а
загулял на несколько дней. Она меня заездила так, что я все больше походил на
изнасилованного. Спасу от нее не было никакого – шагу не ступить. А уж как она
была ненасытна в любви – даже пьяная вдрызг все требовала и требовала ласк.
Иногда мне казалось, что ей кроме моего молодого и крепкого тела и ничего не
надо вовсе. Я иногда даже притворялся пьяным, только чтобы отстала от меня. Но
ничего не мог с собой поделать и возвращался снова и снова, порвав с ней в
который раз. Приворожила меня что ли?! Она замкнула для меня весь мир на себе –
ничего кругом не видел: только ее жадные сладострастные ноздри, опущенные уголки
глаз и извивающуюся змею рта. Меня пугала эта любовь. Да и любовь ли
это?
Помню, встретился случайно с Мишкой – Ликой Стырской – на Страстной
площади. Уже давно я не виделся с друзьями – в окружении были одни лишь пропойцы
и лицемеры. Нежданной встрече этой очень обрадовался. Мы остановились
поговорить. Лика держала в руках букет подснежников. Я удивленно смотрел на
цветы и не мог поверить, что уже февраль, что уже скоро ноздри будет рвать
бешено-пьянящий запах юной весны. Все это время я прожил словно в бреду, не видя
настоящей жизни в череде пьяных и безжизненных ночей с Изадорой. Мишка,
удивленно перехватив мой взгляд, протянула мне букет. Я улыбнулся, взял цветы и
произнес: «Не выношу цветов». Пока мы шли до ее дома, я оборвал подснежники один
за другим, а потом подбросил корешки в воздух.
На Пречистенке было тихо. Изадора вела уроки. Я быстренько собрал сверток –
рубашки, кальсоны, воротнички и, обведя прощальным взглядом стены особняка,
ушел. Поздно вечером я зашел к Кротким и попросился у Мишки на ночлег: «Изадора
меня везде ищет. Можно у вас остаться? Я не хочу возвращаться, я ушел навсегда».
Она стала что-то говорить про печку, про нетопленую комнату, но мне было все
равно: «Ничего. Я накроюсь пальто, и будет тепло. Не хочу на Пречистенку. Все
постыло».
– Что случилось, Сергей? – участливо поинтересовалась
Лиза.
– Не знаю, Мишка. Такого со мной никогда не было. У Изадоры надо
мной какая-то дьявольская власть! Когда ухожу, думаю, что не вернусь, а уже на
следующий день или через день иду к ней снова. Иногда мне кажется, что я ее
ненавижу. Она ведь чужая! Зачем я ей? Зачем ей мои стихи? Она хочет быть моей
женой, а мне смешно. Зачем мне она? Я люблю Россию, коров, крестьян, деревню, а
она – греческие вазы. В греческих вазах мое молоко скиснет.
– Почему ж
ты не уйдешь совсем, не найдешь в себе силы уйти? – робко спросила
Лиза.
– Черт его знает. Она меня любит, и меня так трогают ее слезы и ее
забавный русский язык. Мне с ней хорошо, она очень умна. Когда мы сидим одни и
молчим, мне так спокойно рядом с ней. Когда я читаю ей стихи, она их понимает.
Ей-Богу, понимает. Своей интуицией, любовью.
– А ты-то что? Любишь
ее?
– Не знаю, Мишка. Но я с ней не из-за славы или денег, как про меня
шепчут завистники. Нет, я плюю на это! Моя слава больше ее! Я – Есенин! Денег у
меня было много и будет еще много! Да, она стара, но мне интересно жить с ней!
Знаешь, она иногда совсем молодая, моложе некоторых невинных прелестниц. После
нее молодые мне кажутся скучными – ты не поверишь!
– Но почему же ты
бежишь от нее, Сергей?
– Не знаю. Вот не знаю. Иногда мне хочется
разнести все в этом проклятом особняке. В пыль разнести! И ее тоже!
– Но
почему же? Почему? – воскликнула Лиза.
– Почему? Иногда мне
кажется, что ей наплевать, кто я, что я – Есенин, русский поэт. Что ей нужны
только мои глаза, волосы и моя молодость, которой она упивается. Иногда мне
кажется, что она терпеть не может Россию. Я хочу писать стихи, а она танцует и
знаменита. Почему? Что в ее танцах? Допустим, это искусство, но я нахожу его
смешным. Я не понимаю его! Мне неприятно слышать, что ей аплодируют в театре.
Нерусское это искусство, потому я его и не люблю. Я – русский. Я люблю
Камаринскую! Э-э-эх, да что там! Ну, будет! Спать.
Наутро после этого
откровенного разговора я рано проснулся и, увидев, что хозяева еще спят,
тихонько ушел. Я вернулся на Пречистенку.
Глава 8
Ревность
Моя страсть к Сергею росла с каждым днем. Я прощала его исчезновения и уходы
«навсегда». В душе я знала и чувствовала, что он вернется. Мой бедный мальчик
тоже любил меня, хотя сам сопротивлялся этому и не верил в свою
любовь.
Однажды я написала кусочком мыла, лежащим на мраморном подоконнике –
там его оставили Сергей и Илья Ильич после своей шутки, когда они изобразили на
зеркале расходящиеся линии, как будто зеркало треснуло – «Я лублу Есенин»,
по-русски. Я помню их лица, и как они удивленно переглянулись. Есенин взял у
меня мыло и, проведя под моей надписью черту, быстро написал: «А я нет». Я
печально отвернулась. Мне не хотелось в это верить. Тогда Илья Ильич попросил у
Сергея кусочек мыла и снова подвел черту под его надписью, затем нарисовал
сердце, пронзенное стрелой, и подписал: «Это время придет». Я не стирала эти
надписи, пока мы не уехали в Берлин. Накануне отъезда Сергей сам стер их и
написал: «Я люблю Изадору». Это был один из самых счастливых моментов в моей
жизни.
Я всегда боролась за свою любовь. Пытаясь оградить Есенина от невзгод
и проблем, случайных друзей и тяжелых переживаний, возможно, я и перегибала
палку, но мне тогда казалось, что я имею на это право, что я потом и кровью
заслужила свое счастье. Каюсь, ревность моя не знала границ. Впрочем, Сергей
тоже был слишком ревнив – в этом мы были похожи.
Я помню, как однажды мы
гуляли с Есениным по весенней Москве. В воздухе был разлит уже пьянящий запах
молодого июня. Город стоял зеленый, шумный, радостный. Казалось, что каждое
живое существо спешило поделиться своим восторгом из-за прихода лета. Мы брели
рука под руку по Садовой и молчали. Я гордо вышагивала по мостовой, а мой ангель
весь в своих мыслях и мечтах шел рядом. Вдруг его кто-то окликнул. Он не сразу
обернулся, вырвавшись из своих, одному ему известных, дум. Я ее сразу узнала:
эта девушка – Лика – была одной из немногих посетительниц «Стойла», что знала
немецкий. Мы с ней тогда мило поболтали. Сейчас она была не одна. Лика
представила своего мужа и напомнила, что я обещала заглянуть к ней в гости. «Да,
да, конечно, я с радостью зайду к вам», – сказала я, глядя на Сергея. Она
перевела ему наш разговор. Есенин, нахмурив брови, сказал ей, что мы должны
зайти к Мариенгофу. Да, действительно, мы должны были зайти к Мариенгофу и его
Никритиной.
– Ну, так пойдемте все вместе! – предложила я, и мы
отправились на Богословский.
Мне так не хотелось снова идти туда, куда я
приходила так часто, не дождавшись Сергея дома. Мне было неприятно осознавать,
что эти комнаты были свидетелями столь многих холостяцких тайн. Даже воздух
здесь, казалось, был пронизан секретами и адюльтерами. Я ревновала.
Сесть нам
всем пришлось на кровать, в комнате был единственный стул, да и тот занят
какими-то вещами. Хозяйка комнат, Никритина, которую Есенин прозвал Мартышкой –
и не зря, так как она действительно была очень верткой и некрасивой – разливала
чай. Сергей весело болтал что-то об Америке, о нашей предстоящей поездке туда, о
своих планах, а я, задумчиво слушая его звонкую речь, из которой я выхватывала
отдельные слова, украшала его локоны букетом ландышей со своей груди, пытаясь
сделать что-то наподобие венка, которыми украшали себя греческие боги.
Получилось красиво. Есенин положил голову Лике на плечо и воодушевленно принялся
рассказывать, что собирается читать доклады об имажинизме в Европе. Меня
передернуло. «Неужели между ними что-то было?» – пронеслось у меня в
голове. – «Но она же вроде бы замужем!» Усилием воли я заставила себя
успокоиться. Тут Лика начала вытаскивать из волос Сергея ландыши, один за
другим, снова собирая их в букет. «Это она специально?! Что она делает?!» Меня
вдруг захлестнула волна безумной ревности и накрыла с головой. В слепой ярости я
вскочила и набросилась на нее, оттаскивая ее руки от головы
Сергея.
– Ах, ты грязная стерва! Сука! Тварь! Убери от него руки! –
истошно вопила я на своем родном английском. Стоявший рядом Есенин побледнел и
ответом мне стали его две звонкие пощечины. Меня словно окатили ледяной водой. Я
судорожно вздохнула. Плечи мои тряслась, словно в горячке, а рот искривился и
застыл. На полу валялись растоптанные ландыши. Виновница сцены убежала в другую
комнату, куда тут же вихрем понесся Мариенгоф. Внезапно, словно опомнившись,
нахлынули слезы и ручьем полились из моих глаз. В эту минуту я ощущала себя
самым несчастным существом на всей земле. «Но она же сама виновата! Никто не
смеет его трогать! Никто! Он мой! Только мой!» – звенело в моей голове. –
«Наверное, не надо было этого делать. Так некрасиво, и его расстроила. Он теперь
будет злиться. Простит ли?» Обида и раскаяние смешались в сердце. Я умоляюще
смотрела на Сергея, грозно нахмурившего брови: «Prosti, Sergej Alexandrovitch!
Ljublu tebja! Sorry».
Вернулась ошарашенная Лика. Я, стараясь замять скандал,
бросилась к ней на шею и горячо обняла. Глотая слезы, я прошептала ей: «Русская
любовь». Она натянуто улыбнулась – было видно, что она не простила мне эту
выходку и затаила обиду. Ах, знала бы она, что мне на все это плевать! Самым
важным для меня было прощение моего ангеля, моего Сергея. Ну, уж у него-то я
прощения добьюсь! Во что бы то ни стало!
Глава 9
Свадьба
Солнечным утром 5 мая 1922 года Айседора проснулась в замечательном
настроении. Душа ее пела. «Наконец-то! Наконец-то!» – торжествовало все внутри
нее. – «Ах, думала ли я когда-нибудь, что буду так ликовать в предвкушении
собственной свадьбы?! Да несколько лет назад я и подумать об этом не могла!
Теперь он будет только мой!» За завтраком она вся светилась от
радости.
– Свадьба! Свадьба! – веселилась она, словно маленькая
девочка. – Принимаем поздравления и подарки! Первый раз у меня будет
законный муж!
– А как же Зингер? – удивился Илья Ильич, чуть не
поперхнувшись чаем.
– Зингер? О, нет! – захохотала
Изадора.
– А как же?…
– Нет, нет, Илья Ильич! Сережа – первый
законный муж Изадоры. Теперь я – русская толстая жена!
Чуть позже в загсе
Хамовнического Совета, расположенного по соседству с дворцом Балашовых в одном
из Пречистенских переулков, состоялось бракосочетание Айседоры Дункан и Сергея
Есенина. В сером канцелярском помещении простая белая туника танцовщицы
смотрелась очень экстравагантно. Саму же церемонию решили провести скромно, без
помпезности и излишеств. Когда их спросили, какую фамилию они выбирают, оба
пожелали носить двойную фамилию – «Дункан-Есенин». Так и записали в брачном
свидетельстве. Молодожены были счастливы и светились от
радости.
– Теперь я – Дункан! – кричал Есенин, когда они вышли на
улицу. Теснилась его грудь, распираемая благодушием и восторгом. Он, правда, не
знал одного маленького секрета, утаенного новоиспеченной женой.
Накануне к
Илье Ильичу, робко сжимая в руках свой французский паспорт, подошла
Айседора.
– Илья Ильич, не могли бы вы немного исправить… тут? –
смущенно спросила она, показывая на страницу документа.
– Что исправить,
мисс Дункан? – непонимающе ответил Шнейдер, удивленно глядя на
нее.
– Вот тут – пролепетала она, касаясь пальцем цифры с годом своего
рождения, выписанной черной тушью.
Илья Ильич на мгновение застыл, а потом
рассмеялся.
– Ах, но вы же так молоды и красивы! Зачем это вам? Впрочем,
тушь у меня есть…
– Это для Езенин, – смущенно ответила она. –
Мы с ним не чувствуем этих пятнадцати лет разницы, но она написана тут. Завтра
нам придется дать паспорта в чужие руки, и Сергею может быть, будет неприятно.
Я… Я сказала, что моложе только на 10 лет… Мне же паспорт вскоре не понадобится,
я получу другой.
Шнейдер взял из ее рук бумагу и унес. Когда он вернулся и
протянул Айседоре паспорт, она застенчиво открыла его, посмотрела на проделанную
работу и удовлетворенно улыбнулась.
– Спасибо, милый Илья
Ильич!
Вместо 1878 года рождения красовался 1884.
Так Изадора помолодела
на шесть лет.
Позже днем состоялась встреча всех имажинистов в «Стойле
Пегаса». Было много цветов, шампанского, поэты говорили тосты. Сергей, глаза
которого сверкали чистым голубым светом, торжественно объявил, что он уезжает со
своей женой в заграничное турне по Европе и Америке. Он видел, как поникли лица
некоторых его «друзей», как другие из них начали перешептываться и
переглядываться, а другие позеленели от зависти, но ему было плевать на них. В
этот день он улыбался.
Затем Есенин заскочил к Мишкам и пригласил их на
вечернее торжество: «Обязательно приходите. Если не придете, тогда мы – враги».
Ему до сих пор было стыдно за выходку Айседоры у Мариенгофа. Лика, впрочем,
решила не ходить на банкет, опасаясь разрушить и без того зыбкий мир с Дункан.
Но вечером начались бесконечные звонки. Звонил Есенин, звонила Дункан и
умоляющим тоном просила Лику придти, пригрозив, в конце концов, приехать за ней
лично. Лика обещала появиться. Когда она пришла на Пречистенку, торжество было в
самом разгаре. Как и на всех свадьбах, на этой также кричали: «Горько!», а
Айседора и Есенин целовались и чокались с гостями. Оба были трезвы, веселы и
пребывали в возбужденно-радостном настроении. Айседора была обворожительна и
красива, как никогда, и выглядела помолодевшей. Она встречала гостей в золотой
газовой тунике, золотых туфельках и роскошной чалме с белоснежным пером. Есенин
излучал счастье каждой клеточкой своего тела. Заметив Лику, Айседора тут же
подлетела к ней и, не дав опомниться, отвела в спальню.
– Милый друг,
забудем все! – воскликнула она, взяв девушку за руку.
Лика смущенно
посмотрела в ее глаза и улыбнулась. Она внимательно обвела их обоих взглядом и
решила не портить вечер – они были такие веселые: Дункан, казалось, была готова
сейчас обнять весь мир. Сергей стоял рядом и лучезарно
улыбался.
– Забудем! – тряхнула головой Лика. – Кто старое
помянет, тому глаз вон!
– Ах, как прекрасно! – защебетала Дункан,
вытаскивая откуда-то, словно фокусник, бутылку холодного шампанского, сплошь
покрытую капельками. Сергей откупорил ее и разлил пенящееся вино по
бокалам.
– За нашу дружбу! – провозгласила тост торжественная
Айседора, и они, чокнувшись, выпили. Дункан вдруг стала беспокойно озираться по
сторонам и, схватив один из своих многочисленных портретов, стоявших на
туалетном столике, сказала:
– Это Вам, Лика. В знак моей дружбы и любви!
Она взяла карандаш. Задумалась на секунду.
– Айседора Есенин! –
выпалила она и захохотала. Ей казалось таким смешным это сочетание
имен.
– Sergej, milyj, pomoch Isadora – произнесла она, вытянув губы как
для поцелуя. Она помахала перед его глазами карандашом. Лика стояла в недоумении
– до нее не доходил смысл просьбы Айседоры. Однако Сергей, ни минуты не
колеблясь, взял руку Изадоры и стал водить ею по бумаге. Русскими буквами
Айседора подписала свой портрет: «Есенина».
Удовлетворенно оглядев свою
работу, она сказала:
– Michateino!
И с этими словами вручила портрет
Лике.
Праздник, меж тем, продолжался. Гвалт стоял просто невообразимый.
Айседора и Сергей то и дело смеялись и шутили. Дункан несколько раз кричала, что
отныне ее будут звать только Есенина. Затем, чудовищно коверкая слова,
произнесла: «Teper ja tolstij russkiy jena!», вызвав взрыв всеобщего хохота.
Потом она взяла огромный красный шелковый шарф. Все притихли. «Я буду танцевать,
товарищи!» – официальным тоном объявила Дункан, царственно вышагивая на середину
комнаты.
Заиграл Шопен, и Айседора закружилась, запрокинув голову. Танцевала
она в этот вечер долго и хорошо, как никогда. Шарф окутывал ее руки, как язык
пламени. Она пыталась выразить в движениях всю свою страсть и любовь к Есенину.
Сергей же стоял и бросал на нее из-за угла горячие удивленные взгляды. Он, не
понимавший ее танцы, чувствовал ее запал и те эмоции, которые она передавала.
Самозабвенно вскидывая руки, Айседора погрузилась в себя и, казалось, она здесь
одна и не видит вокруг никого. Окончив, она замерла на месте и стояла недвижно
несколько мгновений. Восторженная публика разразилась бешеными аплодисментами.
Раскрасневшаяся танцовщица счастливо улыбалась и кланялась.
Уже светало, но
гости и не думали расходиться. Впрочем, некоторые из них были и вовсе не в
состоянии покинуть торжество. Айседора распорядилась постелить для всех желающих
матрацы и белье в огромном танцевальном зале. Лику с мужем Дункан устроила в
мавританской столовой, куда внесли гигантскую кровать.
В эту ночь Айседора
была особенно нежна с Есениным. Она ласкала его, легонько целуя в губы, гладила
золотистые волосы и крепкое мускулистое тело, благодарно заглядывала в любимые
васильковые глаза и шептала сентиментальные глупости. Умело она расстегнула
застежки и пуговицы, медленно и осторожно освобождая его от одежды. Затем,
спускаясь все ниже и ниже, она прильнула губами к его животу и поцеловала в
самый пупок. Тело его дрожало от нетерпения. Айседора, горячо и прерывисто дыша,
спустилась еще ниже и поцеловала твердую шелковистую плоть. У него вырвался
сладостный стон наслаждения. Она ласкала его языком, пока не почувствовала
извержение упругой струи. Устало дыша, она прильнула к его груди и ласково
обвила рукой. Она была счастлива.
Сбылось предсказание гадалки – она вышла
замуж в России. Айседора Дункан, презирающая и отвергающая все условности этого
мира! Теперь она была женой прекрасного и гениального юного ангела. Теперь он
будет с ней всегда рядом. Томно уставившись в потолок, Сергей в мечтах уносился
далеко за моря и океаны, с упоением думая о предстоящих путешествиях и странах,
которые он повидает. Его манила заграница – необъяснимая, неизвестная и такая
желанная. «Все там будет по-другому» – казалось ему.
После полудня гости
начали потихоньку просыпаться. Бледными призраками они бродили по дворцу.
Завтракали, когда кто хотел, а разошлись только к вечеру. Через день Айседора
Дункан и Сергей Есенин улетели на самолете в Берлин.
Глава 10
Берлин
Мы сидели на траве Ходынского поля – том самом, на котором во время коронации
Николая II в давке погибли тысячи людей – и ждали, пока заправят наш маленький
шестиместный самолетик. Я никогда не летал прежде и немного волновался. Изадора
показала мне корзинку с лимонами:
– Lemon samoljot
kharasho.
– Да, Сергей Александрович, – подтвердил подошедший
Шнейдер. – Лимоны хорошо помогают от укачивания. Его можно пососать, и
дурнота пройдет.
– О, нет, – протянул вдруг он в ответ что-то
тараторящей ему Изадоре. – Говорит, что шампанское тоже можно в полете.
Нет, Сергей Александрович, от шампанского наоборот будет только хуже.
Я
отвернулся от них. «Опять она о выпивке!» – подумал я. «Черт знает, что такое!
Шампанское вместо воды. Виски, водка и коньяк – на ужин. Одна жратва, выпивка и
утехи на уме!». Мои невеселые мысли прервал пилот, принесший мешковатый костюм
для пассажиров. Я нехотя нацепил его, Изадора же отказалась. Тут она что-то
выкрикнула с большим волнением. «Что же такое опять? Никак она не успокоится!» –
раздраженно подумал я. Как выяснилось, она забыла написать завещание. «Да-а-а,
вот русский человек вряд ли бы про это подумал», – пронеслось в моей
голове.
Илья Ильич достал из своей сумки маленький голубой блокнот и протянул
ей. Она быстро написала короткое завещание, и мы, наконец, сели в самолет. В
кабине было жутковато, я вдруг забеспокоился и вспомнил, что корзинку с лимонами
мы оставили на земле. Тревожно постучав по стеклу кулаком, я показал Шнейдеру на
машину, рядом с которой осталась стоять корзинка. Шнейдер стремглав бросился к
автомобилю и передал мне лимоны, вбежав под крыло уже разгонявшегося самолета.
Мы взлетели. Я с огромным интересом смотрел вниз на родные поля и земли и
предвкушал встречу с Европой. В голове моей роились грандиозные планы и замыслы.
Казалось, жизнь начинается заново.
Завещание, кстати, тогда так и осталось у
Шнейдера. Изадоре пришлось дать телеграмму, чтобы он переслал его нам в
Берлин.
12 мая мы заехали в отель «Адлон» на Унтер ден Линден, где Изадора
всегда останавливалась, и заняли две большие комнаты. В вестибюле уже толпились
шумные журналисты и фотографы, ожидающие приезда стареющей дивы из
«большевистской Москвы» и ее мужа, известного русского поэта. Изадора,
снисходительно улыбаясь, раздавала интервью направо и налево вся заваленная
букетами встречающих ее поклонников. Ко мне репортеры тоже обратились с
несколькими вопросами, но я, как всегда, оробел. Когда дело касалось чтения
стихов, то мне, признаться, не было равных, а вот толкать речи я, увы, никогда
не умел. В этом Изадора, конечно, давала мне фору.
Наутро я должен был
встретиться в кафе «Леон» в Доме искусств с Кусиковым, которому дал телеграмму о
своем приезде накануне. Я пошел в кафе один. Изадора осталась в номере, сказав,
что придет позже. Людей было много, знакомых – не очень. Я немного засмущался,
когда меня попросили читать. Сидевшие тут казались мне какими-то чужими – одно
слово – иностранцы, однако я тут же вспомнил, что они такие же иностранцы, как и
я. Я уверенно вышел на сцену и принялся декламировать. Прочел «Исповедь
хулигана» и монолог Хлопуши. Приняли меня восторженно. Слушатели бешено
аплодировали. Я, честно, не ожидал такого приема, хотя в глубине души и надеялся
на свой успех.
Вскоре пришла Изадора. Я встретил ее и проводил к своему
столику. Вдруг из зала кто-то выкрикнул: «Интернационал!». Изадора удивленно
обернулась и начала выискивать провокатора, а потом заговорщицки подмигнула мне,
и мы запели гимн сами. Начался шум, свист. Видимо, в зале оказались «белые». Я
вскочил на стул и стал читать стихи, пытаясь перекричать свист. Но «бывшие» не
хотели угомониться, тогда я заорал так, что зазвенело в ушах:
– Все
равно не пересвистите. Как засуну четыре пальца в рот и свистну – тут и конец
всей русской эмиграции. Лучше нас никто свистеть не умеет!
Помню, еще что-то
я наплел в тот вечер: кажется, что в России теперь не достать бумаги, и мы
писали с Мариенгофом стихи на стенах Страстного монастыря и читали их вслух на
бульварах проституткам и бандитам. Да, как обычно, дал маху. Публике, впрочем,
понравилось. За мной водилась страсть к розыгрышам, да и пьяным дурачком я, ой
как любил, иногда прикинуться. Через несколько дней все же пришлось давать
объяснительную вместе с Изадорой заместителю наркома иностранных дел Литвинову,
обещая в публичных местах «Интернационал» больше не петь».
В тот день в кафе
сидел Алексей Толстой. Пригласил к себе в гости. А потом, прогуливаясь как-то с
Изадорой по Курфюрстендам, мы встретили Крандиевскую, теперь Толстую. Я бывал у
них еще на заре своего приезда в Москву. Она меня, правда, узнала первой и
окликнула. Я оглянулся и несколько секунд удивленно смотрел на нее, не узнавая,
потом подбежал, схватил руку и крикнул:
– Ух ты! Вот так встреча!
Изадора, смотри кто.
– Qui est-ce? – ревниво спросила Изадора,
подходя к нам. Тут она заметила сына Толстой, Никиту, которого та держала за
руку. Расширенными от ужаса глазами Изадора уставилась на ребенка, а потом
опустилась перед ним на колени и громко зарыдала.
– Изадора! Что
ты? – тормошил я ее. Мальчик перепугался и не знал, куда деться. Толстая
бросилась поднимать Изадору. Вокруг уже собрались любопытные прохожие. Внезапно
Изадора резко встала, выпрямилась и, закрыв лицо развевающимся красным шарфом,
пошла прочь. Я растерянно бросился за ней. С трудом догнав, я подхватил ее под
локоть, и мы пошли в отель. Там она напилась вдрызг, с громкими всхлипами
рассказывая в который раз уже знакомую мне историю о гибели своих детей: в
дождливый день ее сын и дочь ехали с гувернанткой в машине по набережной Сены,
шофер затормозил, машину занесло на скользких торцах и перебросило через перила
в реку. Водитель бросился к дверце, но не смог открыть ее, ручку заклинило,
машина накренилась и упала в реку. Когда автомобиль, наконец, достали из реки,
дети и гувернантка уже были мертвы. Я знал эту историю еще до знакомства с
Изадорой – слышал от кого-то. Теперь же она судорожно говорила и говорила,
иногда перемежая речь именами своих детей – Дирдре и Патрика. Эти имена были мне
прекрасно знакомы. Изадора не раз говорила, что я очень похож на ее сына. Я не
мог утешить ее словами, но я сидел с ней рядом, держал ее за руку и молча гладил
по волосам. Она благодарно заглядывала мне в глаза. Мне было жаль ее…
По
приезду Изадора тут же потащила меня по городу, ей не терпелось показать мне все
музеи и достопримечательности, а меня европейская атмосфера почему-то угнетала.
Смотрел я на это все и с каждой секундой все более убеждался, что нет лучше
России-матушки. Я соглашался на уговоры Изадоры и осматривал город только для
того, чтобы побыстрее забыть. Все здесь было чинно и выглажено как утюгом. Даже
птички сидели там, где им положено. Скука и тоска смертная.
Помню, зашли
как-то в одно из тех злачных мест, о которых я слышал еще в России. Мне
говорили, что эти гомосексуалисты делают все прямо на сцене. «Не может быть!» –
не поверил я. Спустившись в темный полуподвал и пройдя через длинный путаный
коридор, мы оказались в сверкающем зале, стены которого были усыпаны осколками
зеркал. Отсветы мириад маленьких солнц множились на полу. В воздухе зависла
ароматная пелена гашиша. Я осмотрелся. На первый взгляд все здесь было, как и в
любом клубе – мужчины и женщины сидели за столиками, беседуя, обнимаясь,
некоторые целовались. Приглядевшись, я понял, что женщина в этом заведении одна
– Изадора, и она со мной, остальные же – это переодетые мужики, напудренные, с
накрашенными губами, подведенными глазами. «Вот потеха-то!» – засмеялся я. Мы
сели за столик. К нам подошла официантка – или нет, постойте, официант в длинном
вечернем платье с ожерельем на шее. Принесли водку и шампанское. Пьем залпом. Я
вертел головой то влево, то вправо, как на ярмарке, разглядывая этих чудаков.
Вскоре на сцену вышли два мужика, одетых в какие-то похабные перья и чулки. «Ну,
началось!» – потирал я руки в предвкушении. Мужики начали танцевать и
обниматься, но дальше этого у них дело не пошло. Следующим номером на сцену
вышли «девицы» в коротких баварских нарядах. Они тоже лишь плясали и кривлялись,
не более. Когда номер кончился, они сняли с себя одежду и нагишом начали
раскланиваться перед публикой. Причинное место у обоих было прикрыты огромными
фиговыми листками, из-под которых торчали надувные резиновые колбасы, вроде тех,
что продаются на ярмарках. Каждую колбасу венчала крошечная баварская шляпка.
Зал разразился одобрительными возгласами.
Расстроенный тем, что так и не
увидел самого главного – Мейерхольд уверял, будто они у всех на виду имеют друг
друга – я оглядывал одобрительно свистящую танцорам публику, и вдруг поймал
взгляд какого-то напомаженного важного мужчины. Он неотрывно смотрел на меня –
сухое лицо, завитая волосок к волоску прическа, фрак. Мужчина неожиданно
подмигнул мне и вытянул губы, как для поцелуя. Меня в тот момент чуть не
вывернуло. Я вскочил и подлетел к нему, матерясь. Тот встал и посмотрел куда-то
позади меня. Я инстинктивно обернулся. Изадора уже распростерла свои объятия и
шла навстречу моему обидчику, с улыбкой что-то говоря на немецком. Они были
знакомы. Я настороженно смотрел на мужчину, но тот уже потерял всякий интерес ко
мне, увлеченно болтая с Изадорой. Тут она взмахнула рукой, приглашая мужчину и
его спутников присоединиться к нам. Он встал и прошел за наш столик. Рядом с ним
сел еще один напомаженный и накрашенный, а на колени к Кесслеру, как мне его
представили, запрыгнуло какое-то создание, скорее все же женского пола, во фраке
и блестящем цилиндре. Больше на ней ничего не было. Я с изумлением разглядывал
девушку, забыв об Изадоре и своем обидчике. Спутница Кесслера была сильно
накрашена, но можно было увидеть, что она молода и довольно хороша собой. Я
потянулся к ней, чтобы шлепнуть по бесстыжему голому заду, но в мою руку
неожиданно вцепилась рука Изадоры. Ничего себе реакция! С перекошенным от злобы
лицом она с ненавистью смотрела на меня и шипела:
– Sobaka! Stop! Ti
svinja! Blyat’!
Она решила произнести сразу все ругательства, которые
знала.
Я захохотал:
– Ну ты и дура, Дунька! Настоящая
Айседу-у-у-ура!
Она была так нелепа в своей глупой ревности, так смешна, что
у меня даже не было желания осадить ее. Вскоре, напившись вдрызг, мы ушли.
Главного действа на сцене, из-за которого я и пришел, так и не дождались.
К
Толстым на завтрак мы пошли вместе с Кусиковым, прихватившим с собою гитару. Там
должен был быть и Горький. Пансион «Фишер». Большая комната с балконом на
Курфюрстендам, длинный, поставленный по диагонали стол. Мы расселись. Я оказался
соседом с Горьким. Взгляд у него был цепкий, внимательный и немного осуждающий.
От этого взгляда мне сразу стало неуютно. Изадора, как обычно, не смогла
отказать себе в удовольствии выпить и уже вскоре была навеселе.
– Za
russki revoluts! Ecoutez, ja budet tantsovat seulement dlja russki revoluts!
C’est beau russki revoluts! – подняла она тост. Горький нахмурился. От меня
не укрылось, что он что-то недовольно шепнул на ухо Толстой.
Раскрасневшаяся,
с лоснящимся от выпитого лицом, Изадора возжелала танцевать. Оставив на груди и
на животе по шарфу, она, высоко вскидывая колени и запрокинув голову, побежала
по комнате. Кусиков подыгрывал ей «Интернационал». Ударяя руками в воображаемый
бубен, она кружилась и извивалась, прижимая к себе букет измятых цветов. Мне ее
танцы были неприятны, но в такие минуты ее невозможно было остановить. Если она
хотела танцевать – она танцевала. Думаю, у всех присутствующих ее спонтанное
выступление тоже не вызвало особого восторга. Вообще я раньше тоже считал, что
она прекрасно танцует, но это у меня от непонимания. Я увидел в Берлине танец
другой тамошней плясуньи, недавно вошедшей во славу, и понял, что почем. Дункан
в танце себя не выражает. Все у нее держится на побочном: отказ от балеток –
босоножка, мол; отказ от трико – любуйтесь естественной наготой. А самый танец у
ней не свое выражает, он только иллюстрация к музыке. Ну, а та, новая – ее танец
выражал свое, сокровенное: музыка же только привлечена на службу.
Утомленная
Изадора припала ко мне на колени, осоловело улыбаясь. Я улыбнулся, положил ей
руку на плечо и отвернулся. К счастью, меня попросили читать, и я был избавлен
от необходимости говорить ей лживые комплименты. Вся эта атмосфера вконец стала
меня раздражать, от нахлынувших эмоций читал я несколько театрально, но потом
выровнялся:
Но озлобленное сердце никогда не заблудится,
Эту
голову с шеи сшибить нелегко.
Оренбургская заря красноше рстной
верблюдицей
Рассветное роняла мне в рот молоко.
Когда я закончил,
нетрезвая Изадора со слезами на глазах захлопала, как обычно, громче всех с
криком: «Bravo, Esenin! Bravo!». Горький молчал. Я никак не мог понять,
понравилось ли ему. Тут он вдруг попросил:
– Почитайте о собаке, у
которой отняли и бросили в реку семерых щенят… Если вы не устали,
конечно.
– Я никогда не устаю от стихов, – гордо ответил я и
недоверчиво добавил. – А вам нравится о собаке?
– Вы первый в
русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишете о
животных.
– Да, я очень люблю всякое зверье, – сказал я и начал
читать. Читал я, чита, и так мне муторно становилось на душе, так хотелось
сбежать куда-нибудь отсюда подальше. Изадора кричала: «Браво!» и мне вдруг стало
до боли жаль ее. Вот она, старуха, и вот я, а над нами смеется вся эта хваленая
интеллигентская эмиграция. С напыщенным видом они смотрели на нас как на
заморских зверей в клетках. Тьфу, к чертям их! Надо
проветриться.
– Поедемте гулять! – предложил я Изадоре. –
Куда-нибудь! В шум!
И я обнял ее, похлопав по спине.
– Da, dа –
обрадовалась она. – Luna-park!
– Ну, луна-парк, так
луна-парк, – удовлетворенно произнес я, и мы стали одеваться.
На
прощание Изадора бросилась расцеловывать этих снобов:
– Ochen kharoshi
russki! Takoj uh! – растроганно говорила она. Но я осек ее, грубо хлопнув
по плечу:
– Не смей целовать чужих!
Она удивленно обернулась на меня.
Э-эх, конечно же не поняла ничего. Ну да черт с ней! Главное, чтобы ОНИ поняли.
Чужие они были, чужие…
Мы сели в машины. Изадора повисла на моей груди и
вдруг залепетала:
– Mais dis-moi souka, dis-moi ster-r-rwa…
Мне стало
неловко.
– Любит она, чтобы ругал ее по-русски. Нравится ей. И когда бью
– нравится. Вот чудачка! – с оправданием сказал я, обращаясь к
Толстой.
– А вы бьете? – вскинув брови, спросила Толстая.
«Ну,
точно, за зверушек заморских нас держат», – подумал я, а вслух
сказал:
– Она сама дерется!
Лицо Толстой вытянулось в недоумении. Так
их!
– А как же вы понимаете друг друга? – изумилась она в очередной
раз.
– А вот так: моя – твоя, моя – твоя, – показал я ей
руками. – Мы друг друга понимаем, правда, Сидора?
Луна-парк был
безобразен в своем великолепии. Чудные аттракционы, всюду огни, музыка, карусели
и акробаты. С Кусиковым мы вдоволь насмеялись перед кривыми зеркалами, где люди
то раздувались, как бочки, то вытягивались будто червяки. Грохотало «Железное
море» – полоски железа, представляющие море и вздымающиеся то вверх, то вниз,
перекатывая железные лодки на колесах. Осмотревшись, я сказал:
– Да,
ничего особенного. Настроили – много, а ведь ничего такого и не придумали.
Впрочем, я не хаю.
Заграница разочаровывала меня все больше и больше. Все
было не то – не те люди, не то настроение. Я смотрел на бешено крутящиеся
фейерверки и не понимал, что я здесь делаю. Рядом вдруг я заметил молчавшего
весь день Горького.
– Вы думаете, мои стихи нужны? И вообще искусство,
то есть поэзия нужна?
Мой вопрос застал его врасплох. Лицо его вытянулось, но
ответа я ждать не стал. От него он мне был уже не нужен.
– Пойдемте вино
пить.
Мы сели за столик на огромной террасе ресторана. Кругом были веселые
улыбающиеся лица довольных бюргеров. Гремела музыка. Но невесело было мне. Даже
вино мне не понравилось – какое-то кислое и пахнет жженым пером. Красного
французского я тоже пить не стал.
– А ну их к собачьей матери,
умников! – нарочито хулигански закричал я и чокнулся с Кусиковым. –
Пушкин что сказал? «Поэзия, прости господи, должна быть глуповата». Она, брат,
умных не любит! Пей, Сашка!
Мы поговорили с гостями еще о чем-то
незначительном и вскоре распрощались. Изадора была уже сильно пьяна. Я отвез ее
в отель. Дождавшись, пока она уснет, я тихонько ускользнул и растворился в
душном Берлине.
Глава 11
Побег
В Берлине Сергей снова пропал, как он это делал и раньше. Но одно дело
сбежать там, в Москве, и совсем другое – здесь. Я была в шоке. В Берлине он был
один, совсем не зная языка! С ним же могло случиться все, что угодно! Не
сомневаюсь, что виной всему был этот кабацкий пьяница и шпион Кусиков, тенью его
преследовавший!
Три дня я объезжала все пансионы города, пока, наконец, на
четвертую ночь не ворвалась, уже отчаявшаяся, в маленький семейный пансиончик на
Уландштрассе. В просторной столовой в полумраке сидел бледный и осунувшийся
Есенин в пижаме и спокойно играл с Кусиковым в шашки. Я от возмущения просто
задохнулась – я не сплю четыре ночи и ищу его по всему городу, передумав уже
все, что можно, за это время, а он сидит тут и развлекается со своим дружком!
Как вам это нравится?! Разъяренной фурией я подлетела к Есенину и собиралась
влепить ему пощечину, но он, заметив меня чуть раньше, уже вскочил на ноги и
собрался бежать.
Не помня себя от ярости, я схватила что-то, попавшееся под
руку, и швырнула в его сторону. Послышался звон разбитых бокалов, тарелок.
Несколько мгновений мы молча стояли и смотрели друг на друга: он – исподлобья с
расширенными то ли от испуга, то ли от злобы зрачками, мой взгляд, как я думала,
выражал глубокое возмущение и обиду. Мгновение спустя я сделала глубокий вдох и
процедила сквозь зубы:
– Quittez ce bordel immediatement et
suivez-moi.
Как ни странно, Есенин понял меня без наших обычных наглядных
жестов. Он покорно накинул поверх пижамы свою пелерину и водрузил цилиндр.
Кусиков остался в залог. Надо было отметить, что я, тем не менее, была рада, что
обнаружила его одного, а не в компании каких-нибудь молодых девиц.
После
этого инцидента я решила нанять переводчицу. Вскоре мне прислали какую-то
польскую эмигрантку, свободно изъяснявшуюся на пяти языках – Лолу. Есенина я
больше не отпускала ни на шаг, и он сопровождал меня по всем городам, где у меня
были гастроли.
Как-то в Дюссельдорфе я проснулась среди ночи и вдруг поняла,
что Сергея рядом нет. Вскочив на ноги, я обшарила глазами все углы – никого.
Внутри у меня все похолодело – неужели он вот так по-предательски, ночью,
сбежал? Не может быть! Я ринулась в соседнюю комнату, где спала Лола, по пути
заглянув в ванную, где Есенина также не оказалось.
– Лола, впусти! Это
я, Айседора!
Она приоткрыла дверь, бледная и испуганная. Я с силой открыла
дверь пошире и прошла в комнату, бегло оглядывая шкафы и кровать. «Так, здесь
его нет, – пронеслось у меня в голове. – Пойду тогда к
Жанне».
– А что случилось? – удивленно проследив за моим взглядом,
спросила Лола.
– Есенин исчез.
– Вы уверены? Может, быть он в
туалете? – предположила она.
– Нет, его нигде нет, он ушел.
Я
прошла в спальню Жанны. Встревоженная Лола, подхватив свое кимоно, засеменила за
мной. Я постучала и когда Жанна открыла дверь, вошла, также осмотрев на
кровать.
– Monsieur est disparu.
– Mais non, madame!
Я не
знала, что делать дальше – опять объезжать все пансионы или бросаться искать
Кусикова. Решила спросить у консьержки, может, она его видела, когда он уходил –
не выпрыгнул же он из окна, в самом деле. Лола считала, что для тревоги нет
оснований, и муж мой скоро найдется. Бедная Лола, ей и невдомек было – я знала
этого человека и знала, что он может выкинуть!
Лола вдруг вышла на середину
комнаты и громко позвала:
– Сергей Александрович! Где вы?
– Я
здесь, – неожиданно раздался его голос из-за тяжелой портьеры, скрывавшей
балкон. – Вышел подышать свежим воздухом. А почему вы не спите?
И вдруг
он, заметив меня, расхохотался. Я готова была убить его на месте. Меня
захлестнула такая волна возмущения… Волнуюсь, как дура… Внезапно подумалось: а
что если он слышал, как я его ищу, и специально стоял и молчал? С него станется
– очень он любил такие розыгрыши.
У меня, наверное, действительно был очень
глупый вид, потому что он подошел ко мне, взял мое лицо в свои ладони и нежно
поцеловал:
– Глу-у-у-упая.
Таких трогательных моментов в нашей
семейной жизни становилось все меньше и меньше. Я стала замечать, что он
становится грустнее и грустнее с каждым днем, и выглядит очень подавленным и
мрачным. В чем же причина его тоски? И пить он стал теперь гораздо больше – за
границей он почему-то норовил чокнуться с каждым встречным русским. После того
ужасного побега с Кусиковым я поставила условие – или он посещает врача или идет
на все четыре стороны.
В Висбадене его осмотрел профессор. Он долго ощупывал
его, прослушивал дыхание, стучал по коленкам и в подреберье, заставлял следить
глазами за его пальцем, вытягивать и держать на весу руки. После многочисленных
манипуляций он, наконец, поставил диагноз – неврит и неврастения, предупредив,
что если мой муж продолжит пить в таком же темпе, то вскоре я рискую оказаться
рядом с настоящим маньяком. Требовалось лечение. Доктор предложил минеральные
воды. Я настояла, чтобы Сергей остался на несколько дней.
Меж тем, деньги мои
таяли на глазах. Адвокат продал мой дом в Берлине и заплатил всего 90 тысяч
марок. Счет в парижском банке арестовали. На Сергея уходило довольно много
наличности – этот милый непрактичный ребенок имел большую страсть к хорошей
одежде. Если мы проезжали мимо какой-нибудь красивой витрины с красочными
тряпками, платками, он весело размахивал руками и просил притормозить. Я никогда
не могла отказать ему. Бедный мальчик жил все это время в страшной нищете, и
если добротный костюм мог сделать его чуть-чуть счастливее, я была только рада.
Куча денег уходила, конечно, и на выпивку, но я сама была большая любительница
шампанского. В общем, мы сильно поистратились. Пришлось просить помощи у
Зингера, который в очередной раз меня выручил.
В Берлине мы вынуждены были
зарегистрировать наш брак повторно, уже по европейскому законодательству. Тем не
менее, Есенину все равно отказали во французской визе, поскольку он был
гражданином страны, не признанной Францией. Чтобы получить документы, мне
пришлось приложить титанические усилия и напрячь все свои связи и знакомства.
Вскоре мы переехали в Брюссель, а оттуда в Париж, клятвенно пообещав и подписав
заявление, что не будем вести большевистскую пропаганду.
Глава 12
Тоска
Скука смертная одолела меня в этой чертовой загранице. Видел я, что стихи
мои, хотя и известны кое-где и принимаются на ура, но по большей части никому
тут не нужны. Да и вообще поэзия тут никому не была нужна. Все у них здесь было
гладко и причесано – поля за городом, фермы. А земля, между прочим, и не пахнет
ничем, да и лошади все гладкие и скучные. Люди очень любезные и приветливые,
всегда улыбаются, но выдуманные все, конченые, не русская душа, одним словом.
Стало тянуть меня на кутежи и скандалы. Вот это, я считал, здесь интересно
людям, этому они оживлялись: когда пьяный начистишь кому-нибудь морду в кафе или
скажешь какую-нибудь несусветную гадость. Часто я притворялся перебравшим – так
«кутить» было сподручнее, а иногда и впрямь надирался как сапожник. Одно время
аж в больнице отлеживался и цедил несколько месяцев сельтерскую.
Как-то,
помню, обедали у профессора Ключникова. Шумно, душно, мертво. Приглашены были и
люди из французского посольства. Был и Лундберг, написавший на книгу моих стихов
рецензию. В тот вечер я много выпил. Голова захмелела, перед глазами все
кружилось и прыгало. Изадора, как всегда, дала себя уговорить на танцы и
несколько минут трясла своими дряблыми телесами перед восхищавшимися гостями.
Так бы и вмазал в морду! Старуха уже – а все туда же!
Я стоял в стороне и
потихоньку приходил в бешенство. Когда меня попросили прочесть что-нибудь, начал
я с монолога Хлопуши. Голос мой звучал ощутимо раздраженно. Однако, по мере
чтения, я все больше и больше воодушевлялся и когда закончил, то восторженно
обвел глазами толпу слушателей. И так мне вдруг стало тошно от этих парижских
смокингов и поблескивающих бриллиантов. Перед кем я читал свои стихи? Я искал
людей, но и здесь их не было… Одни человеки… Я отошел в угол, но меня окружили
люди, возбужденно что-то говорившие. Я отмахнулся от них и подошел к
Лундбергу:
– Скверно мне!
Он понимающе посмотрел на меня и взял под
локоть:
– Пойдемте, Сергей Александрович. Поговорим.
И вдруг над ухом
раздается властный голос Изадоры – черт, уже пронюхала, уже тут как тут. Ну,
ищейка!
– Vi kuda?
– Мы отойдем поговорить, Изадора. Вы не
против, если я украду вашего мужа? – опередил меня с ответом Лундберг. Тон
его был мягок и вкрадчив.
– О, Sergey, nikuda ne uhodit!
«О, Сергей,
никуда не уходить!» – достала уже своим контролем до печенок! Когда ж
отвяжется?!
– Ты сука! – шиплю я на нее.
– A ti
sobaka! – парирует она вызывающе.
Мне вдруг становится так смешно, но я
сдерживаю улыбку.
– Проклятая баба! – обращаюсь я к Лундбергу. Тот
удивленно смотрит на меня, но во взгляде его не читается осуждения или
презрения. Он оставляет нас. Всю обратную дорогу домой я не перестаю чертыхаться
и обзывать ее. Она то молчит, то вдруг вставляет какое-нибудь из русских
ругательств, которым я же ее и научил. Меня опять разбирает смех.
Как же она
так вертит мною? Почему я не могу ей противиться? Что за любовь у нас с ней
такая странная? И почему я все равно чувствую себя одиноким? Я люблю ее, но она
все равно мне чужая. Не знаю, может, и правда, дело в языке, в нашем
непонимании, хотя… Да нет, она по духу-то была русской. Дело во мне. Да, конечно
во мне! Это я все чего-то ищу и не знаю чего… Тоска заела. Домой
хочу!
Вообще, Изадора стала очень нервозной, нетерпимой – не отпускала меня
от своей юбки ни на шаг, устраивая чуть что дикие истерики, но в то же время,
как бы компенсируя свою опеку, была еще ласковее и нежнее со мной. Пила она все
больше и больше, и подчас алкоголь делал ее жутко развязной – здесь она была как
рыба в воде, и на каждом шагу встречались ее друзья и поклонники, с которыми она
расцеловывалась и размиловывалась. Я ревновал жутко.
Как-то приревновал ее к
пианисту, каждое утро приходившему к ней для репетиций. Они запирались на ключ,
чтобы их никто не беспокоил, чем приводили меня в неописуемое бешенство. Я знал,
как Изадора легко забывалась, поэтому всегда держал ухо востро. Однажды мне
очень понадобилась книга, которая лежала как раз в той комнате, где они
репетировали. Я начал громко стучать в дверь и возмущаться, не обращая внимания
на шипение пытавшейся меня утихомирить Лолы. Тут дверь отворилась, и вышла
Изадора с этим пианистом. Пробежав взглядом по моему лицу, она тут же поняла
причину моей раздражительности и, улыбаясь, сказала:
– Pazhalista, ne
volnujtes, Sergei Alexandrovitch. On pederast!
Я с трудом удержался, чтобы не
расхохотаться этому «педерасту» в лицо. Да, иногда она была очень
забавной.
Помню, в одном из разговоров я пытался внушить ей, что слава
танцовщицы не то же самое, что слава поэта.
– Танцовщица не может стать
великим человеком, ее слава живет недолго. Танцовщица умирает, и ее слава
исчезает вместе с ней. Ведь это визуальное искусство.
– Нет, –
упрямо говорит она. – Если это великая танцовщица, то она может дать людям
то, что навсегда останется с ними, и навсегда оставит в них след. Истинное
искусство ведь меняет людей незаметно для них самих.
– Изадора, ну вот
люди умерли, которые ее видели, и дальше что? Танцовщики, как и актеры: одно
поколение помнит их, следующее – про них уже читает, а третье вообще ничего не
знает.
Она внимательно слушала переводящую мои слова Лолу, и выражение лица
ее с безмятежного сменилось на взволнованное.
Я продолжал с улыбкой, глядя на
нее, как на неразумное дитя:
– Вот ты танцовщица: люди могут приходить и
восхищаться тобой. Могут даже плакать. Но когда ты умрешь, никто о тебе не
вспомнит. Твоя великая слава через несколько лет испарится, исчезнет. И – no
Isadora! – на этих словах я развел руками в воздухе. – А поэты живут и
после смерти в своих стихах! Вот я – Есенин – поэт, и оставлю после себя стихи.
И они будут жить вечно!
Изадора побледнела и стала очень
серьезной.
– Нет, ты неправ, Сергей. Я дала людям красоту. Я отдавала им
свою душу, и эта красота не умирает. Она где-то существу ет! – высокопарно
заговорила она.
Потом вдруг замолчала и со слезами на глазах воскликнула:
«Krasota ni umirat!».
Сердце мое вдруг защемило от жалости к этой повидавшей
многое женщине, с которой меня связала сама Судьба. У меня было чувство, что я
обидел нежного маленького ребенка или какую-нибудь беззащитную животинку.
Несмотря на годы, она оставалась глупой наивной девочкой. Я смотрел на нее, и
все нутро мое наполнялось безграничной нежностью. Я притянул ее голову к себе и
похлопал по спине:
– Э-э-эх, Дункан.
Она в ответ печально улыбнулась
и вышла на балкон.
Я остался в комнате, взялся за томик Пушкина и начал
читать Лоле его стихи. Зная русский, она могла понять и оценить всю их простоту,
красоту и великолепие. Наткнувшись на слово «Бог» в одной из строчек, я
усмехнулся, вспомнив, что большевики запретили использовать в печати слово
«бог». Я рассказал, как мне вернули однажды мои стихи, требуя всех «богов»
заменить другими словами. Лола засмеялась и спросила, что же я
сделал.
– Хм, я взял револьвер и пошел с ним к редактору. Я сказал, что
декрет или не декрет, а придется печатать, как есть, поскольку я под ничью
дудочку плясать не собираюсь. Он отказался. Тогда я спросил, случалось ли ему
получать по морде, а потом сам пошел в наборный цех и поменял шрифт.
Услышав
наши голоса и смех, Изадора с заплаканными глазами, но уже спокойная, вернулась
с балкона и спросила, чему мы смеемся. Выслушав Лолу, она задумчиво
сказала:
– Bolsheviki prav. Net boga. Staro. Glupo.
– Да что ты,
Изадора! – воскликнул я. – Все ведь от него, от Бога! И поэзия от Бога
и даже твои танцы! И ты, и я!
– О, нет, нет, – горячо возразила
она. – Мои боги – это Красота и Любовь. Нет других богов. Знаешь, ли ты,
что такое бог? Греки еще давным-давно это знали. Это люди придумали богов для
собственного удовольствия. Ничего нет, кроме того, что мы знаем, придумываем или
воображаем. Ад весь тут на земле. И рай тоже.
Вдруг она распростерла руки и,
указывая на постель, сказала:
– Vot bog!
Внезапно мне стало страшно –
как же она была далека от меня! Как она далека от меня! Вот ее бог – постель,
тела, физическая любовь, плоть и страсть. Как я ошибался в ней! Как я мог не
замечать всей низменности ее представлений о мире и жизни вообще? С этого дня я
твердо решил, что уйду от нее.
Глава 13
Прогулка
Сергей стал просто невыносим. У нас участились размолвки. Он вел себя словно
капризный ребенок, и никакими уговорами на него подействовать было
нельзя.
Однажды – кажется, это было в Италии – он сказал, что хочет
прогуляться. Я попросила его подождать, пока я переоденусь, и мы пошли бы
вместе.
– Но я собирался идти гулять один, – заявил он, исподлобья
глядя на меня как маленький злой волчонок.
– Сергей, нет, ты возьмешь с
собой Жанну или мисс Кинел, – твердо ответила я.
Он
разозлился.
– Нет, я иду гулять один. Я хочу побыть в одиночестве. Я
просто поброжу по городу, – со мной говорил маленький непослушный Сережа.
Он уже начал одевать ботинки.
Тут вдруг переводившая наши пререкания Лола
таки сама взмолилась отпустить его на прогулку:
– Айседора, ну отпустите
его, пожалуйста. Он устал находиться с нами – тремя женщинами – взаперти. Всем
иногда хочется одиночества. Пусть он пойдет!
Я удивленно воззрилась на нее и,
спуская ей с рук ее бестактность, объяснила, что не могу отпустить его
одного:
– Вы не знаете Сергея. Он может сбежать. Он уже делал это. И
потом женщины…
– Айседора, какие женщины?! Ему надоели женщины. Он
просто хочет побыть один! И потом – как он убежит? Денег у него нет, языка он не
знает?!
Есенин следил за нашими спорами, сидя с налитыми кровью глазами. Он
все понимал без перевода. Потом вдруг резко встал и сказал:
– Я никуда
не иду!
Не в силах больше сдерживать рыдания, я вышла на балкон. Какая
омерзительная сцена! Я знала, что я неправа, но я также знала, что не могу его
отпустить. Мне было так стыдно, что приходиться мучить его, но я так боялась его
потерять! Он чувствовал это! Он не мог не чувствовать. Он знал, как сильно я его
люблю и делаю это только из-за любви!
Рядом со мной стояла Лола и что-то
лепетала. Я обернулась и увидела, что Сергей лежит на кровати лицом вниз. Он
лежал, как обиженный маленький мальчик, не получивший сладостей, одинокий и
покинутый. У меня от боли и жалости так защемило сердце, что я бросилась к нему
и начала целовать его голые розовые пятки. Я осыпала их бесчисленными поцелуями,
а он все лежал и лежал, не шелохнувшись. Потом я поднялась и легла с ним рядом,
крепко обняв его и шепча о своей любви. Внезапно он повернулся ко мне, и я
увидела, что лицо его все было залито слезами. Все внутри меня наполнилось такой
нежностью. Я притянула его голову к своей груди и зарыдала
сама.
– Sergei Alexandrovitch, ljublju tebja!
Что он чувствовал?
Наверное, был ужасно обижен на меня и сильно страдал, но это было ради его же
блага. Да, я мучила его, но я его любила.
Наутро Сергей был уже пьян. Видимо,
пил еще с ночи, пока я спала. Неужели это все из-за меня?! Мы ведь спокойно
могли прогуляться вместе… Он сидел в шезлонге перед пустой бутылкой шампанского.
Подойти к нему я не решалась. Нетрезвый Есенин превращался из кроткого милого
человека в зверя, поэтому я очень обрадовалась, когда проснулась
Лола.
– Он пьян, надо забрать его отсюда. Скажите ему что-нибудь, чтобы
он пошел в номер, – энергично зашептала я ей.
Лола осторожно подошла к
Сергею и поздоровалась. Он с трудом поднял свинцовые веки и помахал ей рукой. Я
вцепилась в Лолу и настойчиво шептала, чтобы она увела его. Лола, меж тем,
затеяла какую-то свою игру: она села в шезлонг неподалеку и стала
ждать.
Сергей вдруг захрипел какие-то ругательства:
– Итальянские
подонки! Буржуи! Их надо выбросить в океан!
Потом внезапно
предложил:
– Хотите выпить?
– Да, Сергей Александрович, но нам
же не обязательно смотреть на них. Пойдемте наверх, в номер – там и
выпьем, – нашлась Лола.
Есенин долго сидел и о чем-то думал – видимо,
решая, идти ли в номер с Лолой. Наконец, его синие губы с усилием искривились в
усмешке, и он, покачиваясь, встал. Я тут же подлетела и подхватила его под
локоть, с другой стороны его взяла Лола. С тяжелой свесившейся головой и
заплетающимися ногами он едва мог идти. Мы с трудом довели его до номера и
усадили на кровать. Я тут же заказала еще две бутылки шампанского, а Лолу
тихонько отозвала в ванную:
– Лола, скорее бегите к врачу отеля и
принесите сильное снотворное. Если он не уснет сейчас, то разойдется и начнет
бушевать. Скажите официанту, чтобы он положил лекарство в одну из бутылок, а
потом бы пометил ее. С остальным мы сами справимся!
От испуга и удивления
зрачки ее так расширились, что глаза из зеленых стали черными. Вскоре Лола
вернулась вместе с официантом и двумя бутылками. Наполнив бокалы, она весело
сказала, протягивая Есенину шампанское:
– Ну, Сергей Александрович,
выпьем!
Он отхлебнул вина и вдруг весь сморщился, с шумом выплюнув его изо
рта на пол. Видимо, снотворное слишком сильно чувствовалось в спиртном.
Отшвырнув бокал, он грозно произнес:
– А, так вот вы как?! Спать
уложить?! Отравить меня захотели?!
Он поднялся и шатающейся походкой быстро
вышел из комнаты. Я оцепенела, не в силах двинуться с места. Лола опомнилась
первая и помчалась за ним вслед. Через несколько минут она, вся красная и
запыхавшаяся, вернулась и сообщила, что не смогла его удержать:
– Сергей
Александрович ушел! Я не успела его поймать!
Я разразилась
проклятьями.
– Ну почему же нельзя ни на кого положиться?! Лола, его
нельзя в таком состоянии оставлять! Он может что-нибудь сделать с собой или с
кем-нибудь! Что же теперь?! – исступленно закричала я, уже отчаявшись.
Казалось, силы сейчас покинут меня. Сергей убегал не первый раз, но каждый раз
на меня нападала катастрофическая растерянность и ступор. Я знала, что могла вот
так часами стоять в комнате с опущенными руками, и, не понимать, что делать
дальше.
Лола испуганно посмотрела на меня.
– Нужно отправить за ним
посыльных, – робко начала она. – Я скажу портье.
– Да, –
воскликнула я, воспрянув духом. – Он не мог далеко уйти – здесь же остров.
Попросите портье отправить за ним кого-нибудь!
Лола стремглав ринулась искать
портье, а я в бессилии опустилась на кровать. Взгляд мой упал на принесенную
официантом бутылку шампанского. Я налила себе бокал и выпила залпом. Потом еще.
И еще один. Растянувшись на кровати, я представляла ужасные сцены, в которых
Есенин случайно тонет в море, выбрасывается из окна, стреляет в кого-нибудь,
идет в ближайшую забегаловку и цепляет там какую-нибудь молодую девку…Видения
были столь явными, что от ужаса мое сердце сжималось и замирало. Тревожные мысли
мои прервал голос Лолы:
– Айседора, пожалуйста, не волнуйтесь. Мы его
найдем. Он ведь не мог уйти далеко. Денег у него нет, чтобы нанять лодку. Он
сейчас вообще скорее всего спит где-нибудь под кустом, как всегда делают русские
крестьяне. Он ведь простой мужик, у него это в крови.
Ее слова приободрили
меня. «Действительно», – подумала я. – «Он сейчас в таком состоянии,
что остается только упасть и уснуть под кустом». Я слегка захмелела и
произошедшее теперь представлялось мне не таким страшным.
– Какая вы
молодец, Лола! Мне бы это в голову даже не пришло! Давайте возьмем машину и сами
обыщем все близлежащие кусты!
Лола стояла в крайнем недоумении. В чем же
дело? Чему она удивлена? А-а-а, она заметила опустошенную бутылку. Я улыбнулась,
подмигнула ей и вылила остатки шампанского в другой бокал:
– Есенин
пьян, я тоже, теперь ваша очередь, Лола!
– О, нет-нет, спасибо –
поспешила отказаться она. – Нужен же кто-то трезвый в нашей компании.
Допейте вы!
Я спешно допила бутылку, и мы поехали на поиски. Жара стояла
нестерпимая. От палящего солнца было не спрятаться. Казалось, что вокруг не
цветные пейзажи, а черно-белое изображение, настолько солнце было ярким: белое –
свет, черное – тень. Мы медленно ехали, прося шофера останавливать машину перед
каждым кустом и изгородью. От сильного нервного напряжения и выпитого вина я
болтала без умолку:
– Ах, это, наверное, моя судьба! Рок! Все мои
любовники были такими эксцентричными! Не могу себе представить, чтобы кто-то
другой занимался тем, чем занимаюсь сейчас я – ищу своего сбежавшего молодого
мужа под кустом на острове. Ха-ха-ха! Как глупо! Знаете, если мы вдруг найдем
его мертвым, я тоже покончу с собой! Без него жить я не могу! Он – моя жизнь!
Да, он мой ангел! Мой маленький непослушный ангелочек! Хм, стойте, а как же я
покончу с собой, если до сих пор не успела еще написать биографию?! Она
удивительна! Кстати, вы могли бы мне помочь с ней, вы ведь любите
писать!
– Айседора, никто лучше вас самой этого не сделает, –
возразила молчавшая всю дорогу Лола.
– Ах, я так ленива! И я ненавижу
писать! – призналась я.
Наш водитель подумал, наверное, что я не в себе.
Действительно, странная картина: две женщины выходят из машины и под каждым
кустом, деревом, забором что-то ищут, потом едут дальше – и так целый
день!
Наступал вечер, а искать Сергея уже было негде. Мы вернулись в отель. Я
так устала, что решила еще выпить вина. Ох, ну и денек! Чувствую себя матерью,
играющей с сыном в прятки. Налив себе бокал, я легла на уже остывающем пляжном
песке и вытянула ноги. Удовлетворенно оглядев их, я громко
сказала:
– Нет, я пока, пожалуй, не буду кончать жизнь самоубийством, у
меня еще слишком красивые ноги.
Расслабившись после утомительного дня и
выпитого спиртного, я уснула прямо на пляже и очнулась только под вечер.
Вернувшись в номер, я узнала от Лолы, что, оказывается, Есенин нашелся. Она
рассказала, что он прекрасно отоспался в саду отеля, прямо под нашим носом.
Затем пришел в номер, переоделся, напудрился и надушился, а потом снова решил
отправиться на прогулку, на которую вчера его не пустили. Так как я спала, то
остановить его было некому. Зато Лоле удалось уговорить его взять с собой Жанну.
Теперь я была спокойна – уж в ее присутствии он не позволит себе флиртовать с
кем-нибудь.
Поздно вечером Сергей и Жанна вернулись. Сергей был трезв и очень
угрюм. Жанна выглядела совершенно выдохшейся. Мне не терпелось спросить, где же
они были, на что бедная Жанна ответила:
– Маis partout!
Они прошли
весь остров вдоль и поперек – сначала пошли к Гранд Каналу, где Есенин долго
смотрел на гондолы, затем пошли обратно, причем он шел так быстро, что Жанна
едва поспевала за ним, а когда она вдруг решила помочь ему при покупке винограда
у местного торговца, он с удивлением заметил ее присутствие – он уже и забыл,
что служанка следовала за ним все это время. Как это на него похоже! Он так
погружался в себя, что ничего не замечал вокруг!
С Есениным мы не
перекинулись и парой слов – он сразу лег спать. Какой же он все-таки ребенок!
Все еще дуется на меня.
На следующее утро Сергей проснулся в еще более
отвратительном расположении духа. Он враждебно исподлобья смотрел на меня и
казался совсем чужим. Когда Лола постучалась к нам, он облегченно вздохнул и
заговорил с ней. Наверное, попросил перевести мне. Я заволновалась, предчувствуя
очередную сцену.
– В Париже я хочу иметь свой собственный ключ. Я буду
уходить, когда захочу, и приходить, когда захочу. Никаких приказов. Я не больной
и не ребенок, – отчеканил он ледяным тоном.
Я молчала и внимательно
слушала. Тут вдруг Лола начала с ним о чем-то пререкаться. Я поняла, что он
говорит что-то такое, что ей стыдно перевести.
– Чего он еще
хочет? – спросила я, хорошо понимая общий смысл сказанных Сергеем слов. И
без переводчика было ясно, что он хочет свободы, но как раз ее-то я и не могла
дать ему.
– Он… Он хочет делать все, что ему нравится, в Париже, –
пролепетала заикающимся голосом Лола.
Я почувствовала, что она многое
недоговаривает. Кроме того, я ведь немного понимала русские слова и отчетливо
слышала слово «женщины». Значит, он хочет свободы и в выборе женщин. Он сказал
еще что-то, но Лола пребывала в таком стыдливом замешательстве, что я не стала
настаивать на том, чтобы она переводила. Я уловила слово «уехать», «Одесса» и
«Россия». Было очевидно, что он грозится уехать обратно, если я не дам ему
свободы действий. Мне стало страшно. Есенин сидел с удовлетворенным видом
победителя, а я, поверженная и униженная, дрожала от душившего меня ужаса. Я не
могла его потерять и готова была на все…
Глава 14
Америка
Америка, Америка. Ужаснейшая дрянь, эта Америка. Нет, поначалу, конечно, она
меня поразила: здания, заслонившие горизонт, почти упирающиеся в небо. Над всем
этим проходят громаднейшие железобетонные арки. Небо в свинце от дымящихся
фабричных труб. Дым навевает что-то таинственное, кажется, что за этими зданиями
происходит что-то такое великое и громадное, что дух захватывает. Мать честная!
До чего бездарны поэмы Маяковского об Америке! Разве можно выразить эту железную
и гранитную мощь словами?! Это поэма без слов. Рассказать ее будет
ничтожно.
Остановились в отеле. Выхожу на улицу. Темно, тесно, неба почти не
видать. Народу тьма, и все спешат куда-то, и дела-то никому до тебя нет – даже
обидно стало. Мириады людей, машин, небоскребов. Потеряешься – и не найдут тебя
здесь. Неуютно мне тут было – еще хуже, чем в Европе.
Помню, пришел ко мне на
поклон один из наших «бывших» – поэт-эмигрант. Все на экскурсию звал, расписывал
все достопримечательности, да так настойчиво, что я в конец не выдержал, да
выпалил:
– Ничего не хочу я здесь смотреть! Мне не интересно, что там
происходит, – и махнул на окно.
Он так удивился. Ну да, где уж им понять
нас…
В Америку нас поначалу и пускать-то не хотели. Высадили на каком-то
острове – за большевиков приняли. А я уж и речь им подготовил:
«Итак, мы на
американской территории. Благодарность – такова наша первая мысль. Мы –
представители молодой России. Мы не вмешиваемся в политические вопросы. Мы
работаем только в сфере искусства. Мы верим, что душа России и душа Америки
скоро поймут друг друга.
Мы прибыли в Америку с одной лишь мыслью –
рассказать о сознании России и работать для сближения двух великих стран.
Никакой политики, никакой пропаганды!
После восьми лет войны и революции
Россия окружена китайской стеной. Европа, сама истерзанная войной, не обладает
достаточной силой, чтобы снести эту китайскую стену. Россия во мгле, но нам
помогло ее бедствие. Именно во время голода в России Америка сделала щедрый
жест. Гувер разрушил китайскую стену. Работа Организации американской помощи
незабываема.
Прежде всего, хотим подчеркнуть тот факт, что сейчас в мире есть
только две великих страны – Россия и Америка.
В России налицо сильная жажда
изучать Америку и ее добрых людей. Разве не может быть так, что искусство станет
средством для развития новой русско-американской дружбы? Пусть американская
женщина с ее острым умом поможет нам в решении нашей задачи!
Во время
путешествия сюда мы пересекли всю Европу. В Берлине, Риме, Париже и Лондоне мы
не нашли ничего, кроме музеев, смерти и разочарования. Америка – наша последняя,
но великая надежда!
Приветствуем и благодарим американский народ!»
Да
речь-то эта мне и не понадобилась. Моя «последняя» и «великая» надежда
рассыпалась в прах.
Изадору здесь принимали, где хорошо, а где нет – все
боялись, что со сцены она начнет агитацию. На каждом своем выступлении она
приглашала меня выйти, объявляя, как «второго Пушкина», и я читал стихи. Читал и
думал: «А на черта мне все это нужно, все равно ведь ни хрена здесь никому не
надо!» Меня и в газетах-то иначе, чем «русский муж» не называли.
Как-то вышел
за угол гостиницы – смотрю, газетчик, а на всех газетах моя физиономия. У меня
даже сердце екнуло. Вот это слава! Через океан дошло. Купил я у него добрый
десяток газет, мчусь домой, соображаю – надо тому послать, другому.
Похвастаться. Прошу перевести, чего пишут. Мне и переводят:
«Сергей Есенин,
русский мужик, муж знаменитой, несравненной, очаровательной танцовщицы Айседоры
Дункан, бессмертный талант которой…» и т. д. и т. п.
В другой
газете: «Вошел муж мадам Дункан. Он… выглядит мальчишкой, который был бы
отличным полузащитником в любой футбольной команде, ростом он примерно 5 футов
10 дюймов, блондинистые хорошо постриженные волосы, широкие плечи, узкие бедра и
ноги, которые могут пробежать сотню ярдов за десять секунд».
Еще в одной:
«Изадора заявила, что считает своего мужа величайшим из ныне живущих русских
поэтов, который входит в группу имажинистов. Она показала журналистам томик его
стихов, переведенных на французский язык… Ее муж, гибкий, атлетически сложенный,
с широкими плечами и тонкой талией, разговаривал с Изадорой главным образом
через ее секретаря. Есенин выглядит моложе своих 27 лет. В одежде он ничем не
отличается от обычного американского бизнесмена, будучи в простом сером твидовом
костюме. Хотя он не говорит по-английски, он склонился над своей супругой и с
улыбкой одобрял все, что она говорила репортерам. Оба они выглядели искренне
влюбленными и не старались скрывать это… Молодой русский поражен панорамой
небоскребов Манхэттена и сказал, что будет писать о них. Он говорит, что
предпочитает сочинять стихи «о бродягах и попрошайках», но он не похож на них.
Он сказал также, что его обожают бандиты и попрошайки, собаки, коровы и другие
домашние животные. В прессе его называли меланхоличным, но он, похоже, самый
веселый большевик, который когда-либо пересекал Атлантику».
Вот тебе и слава!
Такая злость меня взяла, что я газеты эти на мелкие клочки изодрал и долго потом
успокоиться не мог. В тот вечер спустился я в ресторан и крепко, помнится,
запил. Пью и плачу. Россия, матушка, мне уже ночами снится. Ничего я лучше
Москвы не видел. Тут вдруг подсаживается ко мне какой-то негр и что-то участливо
так спрашивает. Я ни слова не понял, но вижу, что жалеет. Я ему про свою деревню
рассказывал, а он что-то про свою лопотал. Мы с ним потом еще пару дней сидели,
пили. Хороший человек был. Только он мне в Америке и понравился. Я его к нам
пригласил. Говорю: «Блинами русскими накормлю». Обещал, вроде, приехать. Кстати,
тогда там был «сухой закон», и все вино, что мы пили, было совершенно
отвратительным и могло бы убить слона.
Да, Америка была моим Ватерлоо. И я
потерпел поражение в этой битве…
Пригласили меня как-то на вечер еврейских
поэтов-эмигрантов. Вместе с Изадорой и несколькими своими приятелями из
Нью-Йорка, коих я знал еще в России, мы поехали к Брагинским. Мани-Лейб –
уроженец Черниговской губернии, оставивший Россию лет 20 назад, тяжко пробивал
себе дорогу в жизни сапожным ремеслом и лишь в последние годы получил
возможность существовать на оплату за свое искусство. Обитал он в новом доме,
которые здесь предназначались для квалифицированных рабочих. Поднявшись на
шестой этаж, мы попали в квартиру, битком набитую людьми разного возраста. Было
очевидно, что всем не терпелось поглазеть на меня и Изадору. Хозяин – высокий и
худой – добродушно и радостно встретил нас вместе со своей женой Рашель. Стол
был завален домашними пирогами, колбасами, а по рукам сразу же пошли стаканы с
дешевым вином. Рашель обвила меня рукой за шею:
– Вы ведь поэт? Как вам
понравилась Америка?
Я почувствовал на себе обжигающий ревностью взгляд
Изадоры, который она метнула на меня. Я усмехнулся. То тут, то там послышался
шепот. Идиш. Я понял, что говорили про меня и Изадору. За все наше с ней
заграничное путешествие я никак не мог отделаться от мысли, что меня постоянно
обсуждают, осуждают, насмехаются надо мной. Я не знал языков, и потому мне
казалось, что всегда говорят обо мне и говорят плохо.
Раздались просьбы
почитать что-нибудь. Я прочел монолог Хлопуши. Аплодисменты. Мани-Лейб прочел
переводы моих стихов на идиш. Но все же мне казалось, несмотря на внешний
восторг, что поэзия моя не доходит до этих людей, русскоговорящих, но наполовину
иностранцев. Скука смертная опять навалилась на меня. Тут попросили прочесть еще
что-нибудь, «из новенького». Я начал трагическую сцену из «Страны негодяев»:
продовольственный поезд шел на помощь голодающему району, а другой голодающий
район этот поезд перехватил, разобрав рельсы и спустив поезд под откос. На
страже поезда стоит человек с фамилией Чекистов и видит, как в утреннем тумане
кто-то подбирается к продовольствию.
– Стой, стой! Кто
идет?
– Это я, я – Замарашкин.
Эти двое знакомы. Чекистов объясняет
всю нелепость акта против поезда помощи голодающим, а Замарашкин уличает его в
личных интересах, оскорбляя:
– Ведь я знаю, что ты – жид, жид пархатый,
и что в Могилеве твой дом.
– Ха-ха! Ты обозвал меня жидом. Но ведь я
пришел, чтоб помочь тебе, Замарашкин, помочь навести справедливый порядок. Ведь
вот даже уборных вы не можете построить… Это меня возмущает… Оттого, что хочу в
уборную, а уборных в России нет».
От меня не укрылось, как недовольно
зашелестели слушатели на слове «жид», как скривились их лица и презрительно
засверкали глаза. Не успел я закончить читать, как мне тут же поднесли новый
бокал. Кто-то явно вознамерился напоить меня. Ну, что же, я не против. Весьма.
Взгляд мой вдруг упал на Изадору, всю раскрасневшуюся от вина и компании. В
своем легком полупрозрачном розовом платье она стояла как будто голая и
несколько мужских рук обвивали ее тело. Я помрачнел. Меня начинало душить
бешенство. Эти твари насмехаются надо мной, так еще и она решила из меня дурака
сделать. Вероятно, мое настроение заметила и Изадора – она подошла и вклинилась
между мной и повисшей над моим ухом Рашель. А я все не мог отвести глаз от
газового платья жены. Тут кто-то попросил ее станцевать. Ну да, конечно, после
стихов мы все дружно посмотрим на эту похотливую старуху. Я уже был порядочно
пьян, а потому не сразу заметил, когда Изадора уже вышла на середину комнаты.
Все расступились. Кто-то заиграл на рояле, стоявшем в углу. Она прижала к груди
шарф и понеслась по комнате тяжелыми шагами полной бабы. Платье ее немного
приспустилось и всеобщему взору открылась ее и без того вываленная наружу грудь.
И тут я словно сорвался с цепи: вцепился в эту тунику, так ясно очерчивающую ее
тяжелые бедра, округлый живот. Перед глазами маячила мерно качающаяся большая
грудь… Я истошно закричал:
– Ах ты, старая блядь! Курва! Сука! Танцуешь
перед этими жидами, да?! Стерва!
Воцарилась гробовая тишина. Но уже через
секунду квартира наполнилась гулом, словно гигантский улей.
Меня попытался
оттащить мой приятель:
– Что вы делаете, Сергей Александрович, что вы
делаете?
Он схватил меня и тянул прочь от Изадоры, а я все не мог выпустить
из рук ее чертового платья:
– Болван, вы не знаете, кого вы защищаете!
Это же старая сука!
Я вырывался из его крепких объятий и пытался дотянуться и
изодрать платье Изадоры в клочья. Она стояла, нелепо улыбаясь, и, как и всегда,
ласково успокаивала меня:
– Nu, khorosho, khorosho Seryozha. Suka,
sterwa, blyad.
Ее нежный баюкающий голос слегка охладил мой пыл. Я отпустил
ее платье, поправил всклокоченные волосы и пиджак. Изадору куда-то
увели.
– Изадора! Где Изадора?! – кричал я в беспамятстве. Кто-то
хватал меня за руки, плечи.
– Она уехала, Сергей Александрович!
Слышите?! Ее здесь нет! Она уехала!
– Как уехала?! Эта блядь
уехала?!
Я рванулся вон из квартиры и бросился вниз по лестнице. За мной
слышался топот бегущих ног. Мани-Лейб и еще несколько человек гнались за мной,
как за преступником. Они скрутили меня и потащили назад, наверх. Я продолжал
кричать и вырываться. Поравнявшись с окном, неимоверными усилиями я освободился
от железной хватки сжимавших меня людей, запрыгнул на подоконник и, разбив
стекло, заорал благим матом:
– Отпустите, жиды проклятые! Я выпрыгну из
окна!
Меня втащили опять на лестницу и поволокли назад в квартиру. Уложили на
диван. Мани-Лейб куда-то убежал, но тут же вернулся с веревкой. Я заорал еще
громче:
– Распинайте меня, распинайте меня!
Они связали мне руки и
ноги. Я извивался на кровати как пиявка, да еще умудрялся горланить во всю
глотку:
– Жиды, жиды, жиды проклятые!
Надо мной склонилось потное и
красное лицо Мани-Лейба:
– Слушай, Сергей, ты ведь знаешь, что это
оскорбительное слово, перестань!
Я замолчал, а потом громко и отчетливо
сказал:
– Жид!
Лицо его побагровело, вены на лбу
вздулись.
– Если ты не перестанешь, я тебе сейчас дам пощечину!
Я не
успокаивался и повторил тем же вызывающим тоном:
– Жид!
Тут он
протянул свою руку и дал мне ладонью по щеке. В ответ я мгновенно плюнул ему в
лицо. Он вытер слюну и громко выругался. Теперь, казалось, мы были квиты. Мне
вдруг сразу стало скучно. Я полежал еще некоторое время на диване, дергаясь и
извиваясь, пытаясь освободиться от пут, а потом решил бросить это занятие и
спокойным тоном заявил:
– Ну, а теперь развяжите меня, я поеду
домой.
У набившихся в комнату людей вытянулись лица. Они стали изумленно
переглядываться между собой.
Мани-Лейб подошел ко мне и молча развязал мне
руки и ноги. Я встал, оправил костюм, пригладил волосы и на глазах у раскрывших
рот гостей покинул квартиру.
Когда я вернулся в номер отеля, меня уже ждал
врач. Видимо, Мани-Лейб позвонил Изадоре, что я направляюсь домой, и она сразу
вызвонила врача. Тот осмотрел меня – заглянул в рот, попросил высунуть язык,
постучал по коленке. Потом что-то выписал, сделал мне укол морфия и уехал.
Изадора сразу уложила меня в постель и вообще вела себя, как заправская
медсестра: ласково подоткнула одеяло, принесла горячий чай. Потом я
уснул.
Наутро она велела мне остаться в постели, а сама ушла к стенографу – в
то время она как раз занималась надиктовкой своей биографии. Весь день я провел
в полусне. Меня навестил Левин, которому я рассказал, что доктор поставил мне
диагноз эпилепсия. Я рассказал, что у моего деда однажды началась падучая, когда
его выпороли на конюшне за какой-то проступок. Видать, падучая и ко мне перешла,
говорю. Потом ко мне зашел Мани-Лейб, но я, казалось, разговаривал с ним как в
бреду. Ничего не помню – снова провалился в сон.
Следующим утром я снова
остался лежать, так как чувствовал себя, откровенно говоря, неважно. Черт бы
побрал этот сухой закон! С их алкоголем я окажусь в могиле уже через полгода! Я
устроился поудобнее в кровати и решил, что надо бы извиниться за вчерашнее перед
Брагинским. К тому же он сам пришел ко мне, наверное, решил справиться о моем
здоровье, а я и не помню ни черта – ничего не соображал.
Я взял почтовую
бумагу отеля и карандаш и написал:
«Милый Милый Мани-Лейб!
Вчера днем Вы заходили ко мне в отель, мы говорили
о чем-то, но о чем, я забыл, потому что к вечеру со мной повторился припадок.
Сегодня лежу разбитый морально и физически. Целую ночь около меня дежурила
сестра милосердия. Был врач и впрыснул морфий.
Дорогой мой Мани-Лейб! Ради
Бога простите меня и не думайте обо мне, что я хотел что-нибудь сделать плохое
или оскорбить кого-нибудь.
Поговорите с Ветлугиным, он Вам больше расскажет.
Это у меня та самая болезнь, которая была у Эдгара По, у Мюссе. Эдгар По в
припадках разб. целые дома.
Что я могу сделать, мой Милый Мани-Лейб, дорогой
мой Мани-Лейб! Душа моя в этом невинна, а пробудившийся сегодня разум подвергает
меня в горькие слезы, хороший мой Мани-Лейб! Уговорите свою жену, чтобы она не
злилась на меня. Пусть постарается понять и простить. Я прошу у Вас хоть немного
ко мне жалости.
Любящий Вас
Всех
Ваш С. Есенин
P.S. Передайте Гребневу все лучшие чувства к нему. Все ведь мы поэты братья. Душа у нас одна, но по-разному она бывает больна у каждого из нас. Не думайте, что я такой маленький, чтобы мог кого-нибудь оскорбить. Как получите письмо – передайте всем мою просьбу простить меня».
Вечером того же дня зашел и сам Брагинский – он принял мои извинения. Не
знаю, взаправду ли. В любом случае, он мог быть удовлетворен, потому что в
газетах творилось что-то страшное. Меня называли «большевиком и антисемитом».
Какой же я антисемит, если у меня дети от еврейки?! На память я подарил
Брагинскому свою книгу и сделал дарственную надпись: «Дорогому другу – жиду
Мани-Лейбу». Видели бы вы его лицо, когда он прочитал это! Я смотрел, как оно
бледнело, потом багровело, затем снова бледнело. Он вопросительно и недоуменно
взглянул на меня, а я с самым невозмутимым видом ответил, смеясь про
себя:
– Ты же меня бил.
Да, в Америке не удалось напечатать ни одной
моей книжки. Да ну и черт с ним! Что мне эта Америка?!
Если хочешь
здесь душу выражать,
То сочтут или глуп, или пьян.
Вот она,
мировая биржа!
Вот они, подлецы всех стран!
Места нет здесь
мечтам и химерам,
Отшумела тех лет пора.
Все курьеры, курьеры,
курьеры,
Маклера, маклера, маклера.
От еврея и до
китайца,
Проходимец и джентльмен,
Все в единой графе
считаются
Одинаково – бизнесмен.
Никому ведь не станет в
новинки,
Что в кремлевские буфера
Уцепились когтями с
Ильинки
Маклера, маклера, маклера…
Дни наши в Америке были сочтены.
Оставаться там было уже нельзя. Так что мы сели на пароход и поехали обратно в
Европу. Кстати, в Америке я узнал, что у Изадоры нет никаких банков и замков,
как она мне расписывала, а живет она на деньги своего бывшего любовника Зингера.
Да, и еще, что она еврейка и на 17 лет старше меня, а не на 9, как она сказала.
Так-то, господа хорошие.
Глава 15
Париж
В феврале 1923 года мы вернулись в Париж. Я вызвала из Лондона свою давнюю
подругу Мэри Дести. Состояние Сергея внушало мне опасения, и я хотела, чтобы
рядом со мной был близкий человек. Она без промедления приехала ко мне и сняла
номер в том же отеле. Мы встретились с ней на вокзале. Выслушав мой сбивчивый
рассказ о молодом гении, русском поэте, испытывающем сейчас некоторые
затруднения в связи с частым употреблением алкоголя, она искренне изумилась,
почему я до сих пор рядом с ним.
– Ах, Мэри, Мэри. Ну он же русский. У
них принято напиваться в выходные и бить жену. Я без него не смогу и дня
прожить! Разве ты не видишь, как он похож на Патрика?! Неужели ты думаешь, что я
смогу его просто так отпустить?!
Мы сидели в номере. Я заказала горячее и
вино. Есенин весь обед канючил, как маленький ребенок: «Шампанского,
шампанского!», но оно моментально подействовало бы на Сергея, поэтому я твердо
отказалась его заказывать. А он, меж тем, не успокаивался и продолжал требовать
шампанского. Тогда я соврала, что Мэри терпеть его не может. Сергей умолк. Мы
неторопливо обедали, я рассказывала Мэри обо всех злоключениях, выпавших на нашу
долю в Америке. Постепенно я стала замечать, что Сергей все чаще и чаще исчезал
то за сигаретами, то за спичками, а его отлучки становятся все более
длительными. «О, нет, теперь он решил тайком от меня напиться!» – пронеслось в
голове. Я немедленно вызвала Жанну. Испуганная и бледная, она сообщила, что
месье Есенин несколько раз заходил к ней в комнату и заказывал шампанское, но
теперь куда-то ушел.
Только не это! Стоило ему выпить – и он бежал от меня,
куда глаза глядят. Наверное, трезвым бежать не решался…Я поникла духом. Если
Есенин напьется сейчас, то в себя он придет только через несколько дней. Как же
я устала бороться с его болезнью! Если бы я знала, что он так пристрастится к
алкоголю, то вообще не разрешала бы ему пить! В отчаянии я бросилась на кровать
и зарыдала. Мэри, удивленная и обеспокоенная, села рядом со мной:
– Что
случилось, Изадора?!
– Ах, Мэри. Я должна тебе сказать кое-что о Сергее.
Мой муж порой бывает очень эксцентричен. Если он не придет в ближайшее время,
думаю, нам лучше куда-нибудь уйти. В другой отель, например. Будет большой
скандал опять. Я тебя уверяю. Он снова набросится на меня…
– Изадора, да
ты что? Уйти?! Я ни секунды не верю, что он посмеет тронуть
тебя!
– Мэри, ты его не знаешь так, как знаю я! Когда он пьет, то
становится совершенно сумасшедшим и спускает на меня всех собак. В такие минуты
я для него главный враг! Нет, я не против того, чтобы он пил. Пусть пьет и пусть
разгромит все в этом городе. Главное, чтобы это не касалось
меня!
– Господи, Изадора, да почему же ты терпишь все это? –
изумилась Мэри.
– Мэри, не могу объяснить. Это долго. Я позже объясню.
Если он не вернется к двенадцати, нам следует уехать.
– Изадора, что за
ужасы ты рассказываешь? Давай уедем тотчас же!
– Да, хорошо, но пока я
не увижу, что с ним все в порядке, я не поеду.
– Изадора! Я не понимаю
тебя!
– Мэри, я не перенесу, если с его золотой головы упадет хотя бы
один волосок! Помоги мне спасти его! Я должна доставить его в Россию. Там он
будет счастлив. Там ему будет хорошо. Он очень скучает по России!
Тут
раздался невообразимый шум в холле – вернулся Сергей. Мэри мгновенно схватила
меня и потащила к себе в номер. Мы приникли к двери – безобразно пьяный Сергей
кричал и матерился, как обычно:
– Изадора! Где ты, старая сука?!
Открывай! Открой эту чертову дверь, старая блядь!
– Изадора, что он
кричит? Чего он хочет? – испуганная Мэри вопросительно посмотрела на
меня.
Я лишь горько усмехнулась ей в ответ. Эти слова я прекрасно понимала
без перевода.
Когда он начал колотить в дверь нашего с ним номера, Мэри
утянула меня в холл, и мы понеслись вниз по лестнице, поминутно озираясь и
оглядываясь назад. Портье я успела запыхавшимся голосом проинструктировать,
чтобы он и его помощники осторожно отнеслись к моему больному мужу. Мэри и я
вскочили в такси и поехали в «Гранд Отель».
Устало опустившись на кровать, я
посмотрела на Мэри. Она негодовала и готова была сама вступиться за меня перед
Есениным. Я так и вижу, как она дает ему отпор в ответ на его тяжелые кулаки.
Да, кулаки Сергея были тяжелыми – в этом мне, к сожалению, пришлось не раз
убедиться. Он вообще обладал недюжинной физической силой и был очень крепким,
поэтому даже когда он просто грубо хватал меня за плечи – это было весьма
ощутимо и больно. Я перевела дух и попросила Мэри заказать шампанского. Она все
никак не могла успокоиться и нервно ходила из угла в угол, то и дело
восклицая:
– Изадора, так ведь не может больше продолжаться! Как ты это
терпишь?! Я тебя совсем не узнаю!
Я умоляюще взглянула на нее и подошла к
телефону – звонить или не звонить? Мне не терпелось узнать, утихомирился ли
Сергей. Может, он уже лег спать? Хотя вряд ли, это на него не похоже. Раньше
когда он бывал пьян, то просто шумел, а потом шел спать. Теперь же было
по-другому: теперь, если он пил, то обязательно за этим следовал дикий скандал с
швырянием вещей. Я, наконец, решилась и набрала номер. Трубку долго не брали. С
каждым гудком мое сердце стучало все громче и громче. Затем я услышала Жанну.
Уже по ее голосу, заикающемуся и нервному, я поняла, что что-то
произошло.
– Мадам, это ужасно! Полиция забрала месье!
– Что?!
Что такое ты говоришь? Полиция?!
– Да, мадам. Шесть полицейских взломали
дверь и ворвались к нам в номер!
– Но зачем?! – закричала я, уже
теряя самообладание. Мэри подошла ко мне и взяла за руку, я крепко сжала ее и
благодарно посмотрела в глаза. Какое счастье, что я не одна сейчас! Даже не
представляю, что бы со мной тогда было!
– Мадам, мсье Есенин хотел
сломать дверь между нашим номером и номером мадам Мэри. Он думал, что вы там. Я
сказала, что вас нет, но он не слушал меня, – продолжала сбивчиво лепетать
Жанна.
– Ох, какой кошмар?! И что? За это его забрала
полиция?
– Да, мадам. Еще, мадам, он избил портье, который прибежал на
шум. А когда вломились полицейские, то он грозился их убить и переломал в
комнате всю мебель! Он выбросил кушетку и туалетный столик в окно! Мадам, я чуть
не умерла от страха!
– Жанна, Жанна, а где же он сейчас? –
закричала я.
– Мадам, его повезли в участок.
Я бросила трубку и
лихорадочно стала соображать, что же делать.
– Надо найти врача! Сергей
болен и ему нужен врач! Его нельзя держать в полицейском участке! – осенило
меня. Правильно – чтобы спасти его от полиции, надо отправить его в
больницу.
Обзвонив все отели, мы нашли в каком-то из них доктора. Я попросила
его срочно приехать ко мне. По пути в участок я рассказала о припадке Сергея в
Америке и о том, что он часто становится неуправляемым в своем бешенстве.
Мы
вошли в серое с тусклым и мертвым светом помещение. Кругом – решетки. Я услышала
знакомый голос и ругань. Сергей никак не мог успокоиться – он бросался на
решетку камеры и изрыгал проклятия. Когда к нему вошел врач, он недоверчиво
подпустил его и дал себя осмотреть. Я все это время стояла так, чтобы он не
видел меня, иначе это спровоцировало бы новый припадок ярости.
Я не знала,
как справляться с его бешенством. Это был совсем другой Сергей, не тот, которого
я знала, совсем чужой. Мой Сергей, мой ангел, был добрейшим существом на свете:
когда он видел на улице беспризорников, то не мог спокойно пройти мимо, он
обязательно подходил к мальчишкам, ласково гладил их, о чем-то расспрашивал и
внимательно слушал. Он всегда давал им деньги, даже если в его кармане они были
последние. Мой ангел никогда не мог пройти мимо дворняжек, бродящих по улицам:
он обязательно покупал им колбасы и хлеба и кормил с руки, о чем-то беседуя с
благодарными псами. В такие моменты он и вправду напоминал ангела – весь
светился каким-то внутренним светом, мягкая светлая сила исходила из него, а
глаза сияли и казались не синими, а золотистыми. Он бесконечно любил своих
сестер и постоянно думал о них, беспокоился, посылал деньги и подарки. Он
помогал своим друзьям и готов был отдать последнюю рубаху. Мой Сергей нежно
гладил меня в минуты любви. Его сладкие губы мягко проникали в мои, а горячие
руки жадно скользили по всему телу. Когда мы были вдвоем, одни, это был совсем
другой человек. Я не узнавала его теперь. Неужели это все из-за выпивки? Мне
верилось в это с трудом. Почему он в такие минуты так легко, походя, оскорбляет
меня самыми грязными ругательствами? Ведь с этих губ срывались и слова любви!
Как это возможно? Как в этом теле в этой душе уживаются два совершенно разных
человека?! Или у русских всегда так: бьет – значит, любит?!
Из оцепенения
меня вывели слова доктора: Сергей очень опасен и его нельзя пока забирать. Я
выслушала вердикт и устало посмотрела на Мэри. Что же дальше? Какая длинная и
безобразная ночь! Уже светало. Мы покинули участок и вернулись в номер. Комнаты
наши представляли собой жалкое зрелище: сломанные и вывороченные кровати,
повсюду валялись разбитые зеркала и осколки стекла, клочья простыней – казалось,
пронесся смертельный торнадо. Оставаться здесь было никак нельзя, да и
управляющий уже вежливо попросил покинуть отель.
Я и Мэри переехали в
Версаль. В полиции нам сказали, что выпустят Сергея, только если он немедленно
покинет Париж. Делать было нечего – я купила два билета, и Есенин вместе с
Жанной уехали в Берлин.
Между тем, сама я слегла с высокой температурой. От
всех переживаний я перестала спать и есть. Мэри не знала, что и делать со мной.
Врачи были бессильны. Я так хотела увидеть Сергея, но деньги кончились, и
никакой возможности уехать в Берлин не было. Пришлось заложить кое-что из
имущества. Получив деньги от ростовщика, я воспрянула духом. Наконец-то! Мы
снова будем вместе! Теперь я смогу все исправить и помочь ему!
Глава 16
Любовь – чума
Оказавшись в Берлине после истории с отелем, я был вне себя от злости.
Изадора осталась в Версале вместе с этой отвратительной лесбиянкой Дести! И хотя
она говорила, что между ними ничего нет, я не мог в это поверить: я видел как в
тот злополучный вечер они сидели друг напротив друга, и Дести смотрела ей в
глаза. Как ее «сестра», которую я сперва принял за настоящую и горячо любимую
подругу, гладит руки Изадоры. Нет, эти взгляды нельзя спутать ни с какими
другими! Такие пламенные взоры бросают только любовники! Естественно, что в тот
вечер я напился и перебил все вокруг. Да, теперь я начинаю припоминать, что
вокруг Изадоры частенько вертелись смазливые девицы. А я-то, дурак, принимал эти
полные похоти взгляды за благоговение перед иконой танца! Черт, эта старуха
удивляет меня с каждым днем! Не пойму только, зачем я ей тогда сдался?! Неужто,
и вправду любит?! А может я действительно ошибался, и Изадора здесь не при чем?
Кто поймет этих иностранцев?
Я послал в Версаль кучу телеграмм. Думаю, после
моей последней Изадора точно тут же примчится: «Isadora browning darling Sergej
ljubish moja darling scurry scurry». Каково, а?! Главное, звучит
устрашающе.
Проходя как-то мимо киоска, я увидел вдруг огромные портреты, мои
и Изадоры, в одной из газет. Я тут же купил несколько и отнес в номер. Разложив
газеты на кровати, я долго сидел и смотрел на стройные строчки и заковыристые
буквы, не в силах понять, что же написано. Похоже на интервью. «Где-то здесь
вертелся русский носильщик. Пойду-ка, найду». Я вышел в холл и начал озираться
вокруг. Вскоре прибежал носильщик, уже отнесший чемоданы очередного постояльца.
Я показал ему газету и попросил перевести. И вот что, оказывается, говорила
Изадора: «Я никогда не верила в брак и теперь верю в него еще меньше, чем
когда-либо… Некоторые русские не могут быть пересажены с родной почвы… Все
знают, что Есенин сумасшедший. В Москве он может крушить все на свете, и никто
не будет обращать на него внимания, потому что он – поэт».
Так-так, значит я
сумасшедший? Значит, меня нельзя «пересадить» – останусь таким же медведем?
Значит, в брак веришь теперь еще меньше? Ну хорошо… Посмотрим, чья
возьмет…
Вскоре в берлинских газетах появилось мое интервью под заголовком:
«Лучше в Сибирь, чем в мужья к Изадоре», где я говорил, что в России я «всегда
найду место, где эта жуткая женщина меня не достанет… Она никогда не желала
признавать мою индивидуальность и всегда стремилась властвовать надо мною». В
другом интервью я сказал, что «безумно люблю Изадору, но она так много пьет, что
я не мог больше терпеть этого». Думаю, ей «понравятся» мои высказывания. Не все
же ей пользоваться тем, что я ни черта не понимаю на басурманских языках.
Я
уже давно решил уйти от нее. Хотя, впрочем, я с самых первых наших встреч понял,
что она такое – властная, нетерпимая, самоуверенная, ревнивая, вздорная, да еще
и пила как лошадь. Ну не пристало женщине столько пить! Как она была мне
омерзительная пьяная! С блестящим потным красным лицом, с тупым тяжелым взглядом
– в такие минуты ей, казалось, ничего не надо кроме еды, хорошего любовника и
выпивки. Слишком поздно я понял, что за всем ее возвышенным и одухотворенным
фасадом скрывается похотливая самка с совершенно низменными потребностями. Да,
поначалу была у меня дикая, необузданная, животная страсть к ней, но с каждым
днем я все больше уверялся в том, что долго рядом с ней не протяну.
Мне так
хотелось молодости, наивности, чистоты, простоты и бесхитростности. Я так жаждал
настоящих, непридуманных, нетеатральных чувств! А еще я жаждал понимающего меня
с полуслова человека! В России я мечтал о мировой славе и загранице, но попав
сюда, не уставая восхищаться технической мощью, я пугаюсь духовной нищеты,
которая здесь царит. Здесь нет жизни – лишь одна смерть, и люди здесь все уже
давно мертвы. А Изадора…
Женщины всегда вдохновляли меня на нежные и
трогательные или страстные послания. Изадора душила меня своей властной любовью,
так что продыху мне не было, и стихов я рядом с ней почти и не писал.
Тоска и
смертная скука на душе. Ищу людей, а их нет…Помню, дело было в дорогущем
парижском ресторане «Шахерезада», где официантами прислуживали русские из бывших
белогвардейцев – все сплошь офицеры. Подошел ко мне один:
– Вы
Есенин? – спрашивает. Мне сказали, что это вы. Как же я рад вас видеть! Вы
ведь тоже не выдержали этого большевистского пекла? Сбежали? Посмотрите, до чего
нас большевики тут довели – русские офицеры лакеями прислуживают.
Я вдруг
разозлился и ляпнул:
– Дворяне, значит? А мы из мужиков, из крестьян,
так что ваша обязанность помалкивать, да чай подавать.
Офицер позеленел от
злости и отошел. Я видел, как он шептался с двумя рослыми официантами. Я понял,
что он собирается взять меня в работу. Я взял Дункан под руку и прошел мимо них
к выходу. Они и слова мне не сказали. В эту же ночь на улице на меня напали,
избив до полусмерти. Это были те трое офицеров. Изадора была в ужасе, я думал,
ее хватит удар.
Да, из-за тоски я был озлоблен на весь мир. Кутежи, скандалы,
пьянки…
Я вспоминаю, как зашел вместе с Кусиковым и балалайкой в гости к
Белозерской-Булгаковой. Пума, как выяснилось, уехал тогда в Союз с Толстым.
Настроение у меня было ни к черту. Я сидел на диване и тихонько бренчал на
балалайке, напевая себе под нос рязанские частушки. Вдруг она начала подпевать
мне. Я удивился:
– Откуда вы их знаете?
– Слышала в детстве. Моя
мать – рязанская.
Я улыбнулся. Надо же, земляки, значит.
– А еще я
знаю, что солнце – это «сонче», а цапля – «чапля».
Нежность вдруг захолонула
мою душу. Внезапно стало так больно, и сильно защемила в сердце тоска. Я
вспомнил родные поля и просторы, медленно бредущих коров, сиротливо жмущиеся
избы…Э-э-э-эх!
Я вскочил с дивана и громко прочитал:
Сыпь,
гармоника. Скука… Скука…
Гармонист пальцы льет вольной.
Пей со
мною, паршивая сука.
Пей со мной.
Излюбили тебя, измызгали
—
Невтерпеж.
Что ж ты смотришь так синими
брызгами?
Иль в морду хошь?
Закончив, сразу прочитал
другое:
Не гляди на ее запястья
И с плечей ее льющийся
шелк.
Я искал в этой женщине счастья,
А нечаянно гибель
нашел.
Я не знал, что любовь – зараза,
Я не знал, что любовь –
чума.
Подошла и прищуренным глазом
Хулигана свела с
ума.
Да, это все о ней, об Изадоре. Белозерская, помню, слегка скривилась.
Видать, покоробили мои поэтические излияния. Но она и слова не сказала. Такой,
наверное, был жалкий у меня вид.
Может, все это так совпало – Изадора и тоска
по родине. Изадорина нежность, заботливость и ласка – вот то единственное, что
меня трогало и заставляло еще оставаться рядом с ней. Когда она не пила и была
со мною искренна, я так любил ее! Но дней таких в моей жизни становилось все
меньше и меньше. Я знал одно, если я решу остаться с ней, то погибну и как
человек, и как поэт…
Глава 17
Смешная пара
Мы с Мэри, наконец-то, после всех приключений в дороге и автомобильных аварий
приехали в Берлин. Нас встретил радостный Сергей, который одним махом запрыгнул
в автомобиль и бросился меня обнимать и целовать. Прямо не узнать! Он ли это?!
Как же я была счастлива видеть его веселым! Все это время я места себе не
находила, особенно, после пугающих и непонятных телеграмм, которые он мне
присылал. Я уже надумала себе бог знает что – мне постоянно мерещилось, что с
ним случилось нечто страшное: пырнули ножом в пьяной драке, избили до смерти или
он сам выбросился из окна. Теперь можно было вздохнуть с облегчением.
За
собой Есенин притащил целую ораву друзей с балалайками и гармонью. Я нисколько
не удивилась – Сергей всегда был душой компании. Всей толпой мы поднялись к нам
в номер. Управляющий проводил нас недоуменным взглядом, потом опомнился и
подбежал ко мне, спросив, сколько нам требуется комнат. Я обвела присутствующих
царственным взором:
– Комнаты на всех! Это со мной!
– Э-э-эй,
куше, куше! – ликовал Сергей, размахивая руками.
– Sejchas,
Seryozha, kushe, kushe! – отвечала я. В переводе с нашего языка «kushe»
означало «кушать».
Сергей тут же принялся кому-то радостно названивать –
наверняка, звал еще с десяток голодных русских поэтов. Но сегодня я была добрая,
потому что видела своего ангела живым, невредимым и в прекрасном настроении. Я и
думать забыла обо всех наших ссорах, скандалах и размолвках! Как будто и не было
ничего!
Я распорядилась накрыть в большом салоне отеля стол. Этот вечер
решено был сделать русским, и понеслось: икра, гречневая каша, расстегаи, блины,
курники, пожарские котлеты и море водки. Перед закусками я заставила всех гостей
по русскому же обычаю выпить три рюмки водки подряд. Это их развеселило и
настроило на нужный лад. Сергей затянул песни, а остальные стали ему подпевать.
Вышло очень красиво. Есенин вообще очень любил петь – он мог часами сидеть и
тянуть какой-нибудь печальный и прекрасный народный мотив. Потом он вдруг
вскочил и бросился ко мне в ноги. Преклонив колени, он осыпал меня тысячами
прекрасных и нежных русских слов и просил прощения за свои выходки. Все его
друзья как по команде тоже вдруг встали на колени и принялись целовать мне руки.
Я была так тронута, что почти разрыдалась. Это было прекрасно!
Мы пили и
пили. Всеобщее веселье нарастало.
– A chto, Sergey Alexandrovitch,
mozhet russkogo? – подбоченясь спросила я.
Он хитро подмигнул
мне:
– Давай, Дунька, русского!
И мы пустились в пляс. Сергей так
лихо выделывал коленцами, что только и сверкали его пятки, а я павой плыла
вокруг него, раскинув шаль. Раскрасневшаяся и запыхавшаяся я присел отдохнуть,
но Есенин вошел в раж и вскочил на стул. Он начал декламировать свои стихи. Все
восторженно притихли. Я так любила слушать, как он читает. Казалось, его голос
гипнотизирует. Даже если он бывал в мрачном расположении духа, стоило ему начать
читать, и он начинал светиться и сиять изнутри, проливая свой чудесный свет
гения на всех, кто его слушал. Восхитительно!
Откланявшись, Сергей уселся за
стол и о чем-то заговорил с одним из приятелей. Я смутно понимала о чем идет
речь, но стала прислушиваться, так как голоса их почти переходили в шепот. Среди
потока неясных слов я отчетливо несколько раз услышала «ана». «Что за Анна? Кто
это? Любовница? Но где же он встретился с ней – здесь он все время рядом со
мной?» – лихорадочно крутились в моей хмельной голове мысли. Я не могла больше
сдерживаться и подошла к ним:
– Ti svinja! Ja znat Anna! Ja vsjo znat
pro Anna!
Сергей сидел несколько секунд, не шелохнувшись, затем лицо его
побледнело, веки покраснели, а синие глаза налились кровью, отчего зрачок
расширился и они стали черными. Он резко вскочил и начал изрыгать страшные
ругательства:
– Ах ты, старая блядь! Это не твое дело, сука! Достала ты
меня до печенок!
Орал он почему-то и на Мэри. Я уже не разбирала слов – это
был сплошной поток отборного русского мата. Затем Сергей схватил первое, что
попалось ему под руку – тарелку с рыбой – и запустил ею в стену. Она попала в
одного из гостей – представителя советского посольства. На этом Есенин не
остановился и продолжил швырять все, что можно было швырнуть. В ход шло все –
еда, посуда, стулья. Гости все забились по углам, а я, как стояла в центре
комнаты – этакого побоища, – так и осталась стоять, не с вилах
пошевелиться. Опомнившись, я кинулась к дверям, но они были закрыты. В отчаянии
я начала дергать их с остервенением, но тщетно.
Сергей всегда запирал двери
во время своих приступов ярости, а ключи прятал в карман. Правда, когда он успел
закрыть дверь на этот раз? Тут вдруг рядом с моей головой что-то пролетело. Я
успела вовремя увернуться – тяжелая бронзовая лампа, которой можно было при
желании и убить. Я истошно завизжала. Тут, наконец, опомнились приятели Сергея и
попытались его скрутить, но это им не удалось – он брыкался и вырывался. В дверь
колотили, что есть мочи, управляющий и портье, сыпя угрозами, однако никто даже
не обратил на это внимания. Есенин оглядывался в поисках вещей, которыми еще
можно было запустить в меня, при этом, он орал, не скупясь на оскорбления.
Внезапно распахнулись двери ванной и в комнату всыпались сотрудники отеля.
Управляющий с выпученными глазами осматривал поле брани. Я тут же подлетела к
нему:
– О, пожалуйста, не волнуйтесь. Все в порядке. Просто несчастный
случай! У нас все в порядке! Мы сейчас разойдемся спать!
Я пыталась
выпроводить его из номера, но все, что ему нужно было увидеть, он уже увидел. Я
с укоризной посмотрела на Сергея, которого вид людей в униформе мгновенно привел
в чувство. Он что-то прошипел в мою сторону, но уже не так злобно. Я подошла к
нему и обняла, прошептав на ухо:
– Prosti, Sergej Alexandrovitch!
Prosti, moj angel! Moja ljubov! Dura! Dura!
Я чувствовала себя виноватой.
Продолжая ласково нашептывать Сергею нежные слова, я тянула его в спальню.
Несколько секунд он сопротивлялся, а потом дал, наконец, себя увести. Я закрыла
комнату на ключ и подошла к нему. Сергей стоял и, не мигая, смотрел на меня. Тут
меня охватила дикая страсть, и я набросилась на него. Я кусала его губы и
впивалась ногтями в крепкое мускулистое тело. Мы яростно занялись любовью.
Сергей неистовствовал. Казалось, этот скандал только раззадорил и распалил нас.
В который раз постель нас примирила.
Наутро я с удивлением обнаружила, что
все гости остались ночевать с нами – они лежали, кто где, среди разломанной
мебели и разбитых тарелок. Зрелище было поистине странное. Чуть позже мне
принесли записку от администрации отеля, в которой довольно вежливо просили нас
покинуть их гостиницу. К записке прилагался счет за нанесенный ущерб. Я
зажмурилась и, чуть приоткрыв глаза, посмотрела на цифру. У-у-ух!
Стали
потихоньку собираться. Перед отъездом допили остатки шампанского. Вся компания
погрузилась с нами в машину, и мы переехали в другой отель. Настроение, несмотря
на вчерашний скандал, было приподнятое. Решено было повторить застолье. После
положенных трех чарок водки Сергей запел, его песню подхватили остальные гости.
Они так красиво пели, что у меня слезы на глаза наворачивались. Мне захотелось
танцевать, и я предложила снова сплясать вместе русского. Я закружилась,
схватила свою шаль, но тут вдруг почувствовала резкий толчок в спину и чуть не
отлетела к стене.
– Эй ты! Ты не умеешь плясать русского! Для этого надо
быть русской! А ты умеешь только трясти своими телесами, похотливая стерва!
Я
слегка оторопела, но потом быстро нашлась:
– A ti
svinja!
– Замолчи, сука!
– Zamolchi sobaka! Korova! – не
унималась я, войдя в раж.
Он вдруг захохотал и, подлетев ко мне, начал
осыпать поцелуями. Потом внезапно выпрямился и, словно опомнившись, снова бросил
мне:
– Сука ты!
Потом подлетел к столу и в мгновение ока сдернул
скатерть так, что все блюда с едой, бутылки, посуда и приборы посыпались на пол.
Все стояли остолбеневшие. Мне было странно видеть, что даже его друзья,
привыкшие, казалось, ко всему, были повергнуты в шок. Не знаю, что на меня нашло
в этот вечер, но я решила показать Сергею, как выглядит со стороны его
поведение. Бешеная ярость медленно забурлила где-то глубоко внутри меня и
медленно начала прорываться наружу. Пока все бросились поднимать тарелки и
ставить их на стол, я неспешно опустилась на колени, и, не сводя глаз с Сергея,
ухватила большое фарфоровое блюдо. Он стоял и удовлетворенно обводил взглядом
результаты своей работы, как вдруг рядом с его ухом пролетел какой-то увесистый
предмет. Он удивленно обернулся – я запустила в него фарфоровым блюдом,
разбившимся с оглушительным звоном. Происходящее потом я помню смутно. Со мною
сделалась истерика и я, уже помимо своей воли, кидала и швыряла в воздух все,
что могла схватить на полу – графины, салатники, ножи, бокалы. Мэри пыталась
унять меня, но я отмахивалась и брыкалась. Внезапно Сергей
закричал:
– Доктора, доктора! Изадора больна!
Краем глаза я увидела,
как в комнату вошли управляющий и портье. Сергей не унимался и требовал для меня
врача. Вскоре пришел доктор и сделал мне укол.
Я помню, как лежала уже в
спальне, а Сергей ходил вокруг меня и что-то кричал, спорил о чем-то с Мэри. Они
то запирали, то отпирали двери, поминутно сопровождая свои действия
оглушительными воплями. Я умоляла оставить меня в покое. У меня кружилась
голова. Но Сергей не мог успокоиться:
– Не спи, старая дрянь!
Вставай!
– Sergej, pozhalista! Ja hotet spat’! Pozhalista! Isadora
bolet’!
Наконец, он угомонился и ушел в комнату, где оставались его друзья. Я
уснула. Под утро меня разбудил Сергей. Я открыла глаза и увидела прямо перед
собой его глаза – они не были синими, они были мутно-серыми и злыми. Он с
ненавистью глядел на меня и молчал.
– Sergej, chto ti? Chto ti? –
спросила я.
– Ничего, сука! Хватит спать! Вставай! Я хочу
шампанского! – он все еще был пьян.
– Sergej, perestan pozhalista!
Ja ljubluj tebja!
– Да к черту твою любовь! Зачем она мне?! –
злобно закричал он.
– Sergey, ljublju tebja – повторяла я снова и
снова. – Angel, moi angel! Ljublju tebja! Ti moja zhizn’! Ti pohozh
Patrick! Ti pohozh moj syn! Ljubju tebja!
На мгновение он застыл, а потом
прошипел:
– Что Патрик? Кто Патрик? Патрик – ублюдок! Бастард!
У меня
что-то оборвалось внутри. Я похолодела. Слезы градом полились из моих глаз,
застилая пеленой мой взор. Я молча поднялась с кровати, встала и, помедлив,
бросилась вон. Никто не смел оскорблять память моих бедных детей, моих
несчастных ангелов! Это уже было слишком! Я не в силах была понять, как он мог
такое сказать. Он ведь так любил детей, и своих у него было трое! Он всегда с
такой теплотой говорил о них. Как же? Как же он мог? Он же знал, что эта рана –
смерть моих малюток – до сих пор не зажила в моем сердце, да и вряд ли
когда-нибудь заживет. Нет, всему есть свой предел!
Я вышла из отеля и
отправилась в Потсдам. Первым делом мне требовалось выпить – состояние мое
оставляло желать лучшего, я была на грани нервного истощения. Все это время я
жила в постоянном беспокойстве. Наш союз стал понемногу тяготить меня. Конечно,
я видела, что вместе нам сложно ужиться, но и друг без друга мы не могли
существовать. Нас тянуло как магнитом. Эту мучительную для обоих любовь никто из
нас не решался прервать.
Я отправила Мэри записку, чтобы она собрала
потихоньку от Сергея вещи и приехала ко мне. Подруга примчалась незамедлительно.
Вместе мы пошли искать отель. Я всю дорогу расспрашивала у нее о Сергее. Мэри
сказала, что он разбудил ее рано утром, весь в слезах, и сообщил, что я ушла. Ее
слова вновь наполнили мое сердце любовью. Я была тронута. Значит, он
раскаивается. Значит, я дорога ему. Значит, он любит меня. Обиды я не забыла, но
она уже не так горько саднила душу. Все-таки он был совершенным ребенком! Ему
нужно было помочь. Он рос без матери и все время искал любви и заботы. Я давала
ему эту любовь и заботу. Я стала ему матерью. Он нуждался во мне – вот почему он
всегда возвращался. Маленький непослушный ребенок!
Дрожащими пальцами я
набрала телефонный номер отеля и попросила консьержа соединить с моей
комнатой.
– Дорогая, дарлинг, прости меня! Я был пьяный. Прости! Я люблю
тебя! Если ты уйдешь – я умру! Где ты? – услышала я тут же в трубке, не
успев сказать ни слова. Голос его звучал нервно и заискивающе. Внезапно он начал
судорожно всхлипывать. Я растаяла.
– Sergej, perestan'! Vzyat’ taxi i
priehat’!
– Да-да-да, хорошо, Изадора. Я сейчас приеду, –
пролепетал он.
– Sergej, net dengi. Vosmi dengi, – я старалась
говорить твердым тоном, давая понять, что все еще обижаюсь на него.
Мэри
смотрела на меня как на умалишенную:
– Изадора, ты с ума сошла?! Ты
хочешь вернуться к нему?! Изадора, он же сумасшедший, этот
мужлан!
– Мэри, но я люблю его! Он просто хочет домой, поэтому и ведет
себя так. Ему здесь не нравится. Вот увидишь, мы вернемся в Россию: я буду вести
свою школу, Сергей будет писать стихи – мы заживем прекрасной светлой жизнью! По
вечерам у нас будут собираться чудесные и интересные люди, мы будем подолгу
говорить об искусстве! У нас все будет замечательно!
Подруга недоверчиво
глядела на меня. Мы были знакомы с ней больше десяти лет. Я догадывалась, что
она думает. Она тоже хорошо меня знала, поэтому не стала снова отговаривать от
воссоединения с Сергеем. Вместо этого она задумчиво сказала:
– В Россию?
Чтобы поехать в Россию, нужны деньги, Изадора. Разве они у тебя теперь
есть?
Со всеми этими попойками мы сильно растратились. Я никогда особо не
задумывалась о деньгах – если у меня их не было, мне помогал Зингер или я
продавала что-то из своих вещей. Но для поездки в Россию нужны были большие
деньги, а выручки от моих выступлений не хватало.
– Ну, я могу продать
свой дом на рю де ла Помп… – начала я.
– Изадора, это стоит того?
Ты уверена? – резко перебила меня подруга.
Я на секунду задумалась и
твердо ответила:
– Да!
Да, для Сергея я готова была на все.
Вскоре
он приехал с двумя приятелями. Раздобыл у кого-то в долг четыре тысячи франков.
Теперь мы могли отправиться в Париж.
Ужинать решили в цыганском ресторане.
Здесь как раз вечером выступал русский цыган, исполнявший романсы царю. В
ресторане мы встретили каких-то знакомых Сергея – писателей с женами. Есенин
очень им обрадовался и как-то весь встрепенулся, оживился. Мы слушали цыгана,
который тоскливо и надрывно пел о чем-то – наверное, о любви. А я молча сидела и
думала о нас, о нашей с Есениным любви. Он, конечно, сильно тосковал по родине –
этого нельзя было не заметить. Заграница встретила его не совсем дружелюбно. Он
был здесь чужим. Мне казалось, что стоит ему вернуться в Россию, и все у нас
наладится. Там я смогу ему помочь. Я смогу вылечить его от этой душевной
болезни, ведь тому будет способствовать и все его окружение. Там, в Москве, он
почти не пил. Там, в Москве, у нас было много удивительных дней, когда мы
оставались одни и полностью принадлежали друг другу. Как он был нежен и ласков!
Мой ангел!
Я вдруг поймала взгляд одной из женщин, сидевших в нашей компании.
Она внимательно рассматривала мои руки. Я машинально тоже оглядела их. Да, мои
руки уже не такие красивые, как раньше. Когда-то они были совершенно
восхитительные, словно выточенные из мрамора. Возраст – убийца красоты, но он
приходит ко всем. Я немолода, а он – Есенин – молод и красив.
– Мы
вместе смешная пара? – спросила я ее по-французски.
Глаза женщины
расширились от испуга. Такого вопроса она не ожидала.
– О, нет…
Наоборот!
«Соврала», – усмехнулась я про себя.
Когда ресторан
закрылся, нас позвали в другой зал. До утра мы слушали цыганский хор и Сергея,
распевавшего народные песни.
Глава 18
Maison de sante
Мы вернулись в Париж. В Париже Изадора обещала найти деньги на поездку в
Россию. У меня уже было никаких сил ждать. Свинцовая тоска накрывала с головой,
а сердце щемило так, что иногда было трудно дышать. И даже, встречаясь с
русскими здесь, за границей, я с сожалением понимал, что это уже совсем другие
люди, чуждые мне по духу. Каждую ночь мне снились мои любимые и дорогие друзья и
подруги, сестры Шура и Катя, Москва.
Сменив несколько отелей, где
администрация, наслышанная о наших скандалах, не желала видеть мадам Дункан и ее
мужа, мы остановились в Карлтоне. На следующее утро Изадору пригласили на обед,
где должны были присутствовать важные шишки. Я уже привык к этим сборищам,
которые давно стали для меня одинаковыми и безликими. Я старался быстрее
напиться, чтобы не видеть этих сверкающих лицемерием физиономий, раболепно
что-то нашептывающих или же, наоборот, презрительно-насмешливо кривящихся в
усмешке. Больше я не чувствовал себя заморским зверем в клетке – нет, на смену
этому ощущению пришла тупая и беспросветная ненависть. Именно она заставляла
меня крушить номера отелей, разбивать посуду, стягивать скатерти с тарелками,
бросаться на Изадору…
Этот ужин не стал исключением. Я быстро набрался
шампанского. Изадора, как и всегда, сияла, думая, что все вокруг только и
делают, что восхищаются ею, не замечая ее обнаженных дряблых подмышек, обвисшей
груди и красного обрюзгшего лица пьющей женщины. О, нет, она действительно
считала, что еще способна возбуждать одним своим видом. Я заметил, что вокруг
нее вертелся какой-то стройный чернявый парень, похожий на жиголо. Он склонился
над ее ухом и что-то шептал, крепко сжимая руку. Я вдруг ощутил, как из недр
моей души поднимается волна жгучей ревности. Изадора улыбалась, поблескивая
великолепными белоснежными зубами и чуть запрокинув назад голову. Ах, ты старая
потаскуха!
Вот он повел ее на середину комнаты. Сейчас, значит, будет
танцевать. Как я ненавидел эти ее танцы! Она сладострастно извивалась в объятиях
партнера, прижимаясь к нему всем своим полным телом. В воздухе запахло похотью.
Я так крепко уцепился за край стола, что у меня побелели костяшки пальцев. Вот
она вернулась к нам. Села. Широко улыбается. Я чувствую, как ее распалил этот
жиголо. От нее веет жаром разврата. Она, как бы походя, замечает мои налившиеся
кровью глаза, но делает вид, что ничего не происходит. В голове моей
мутится.
Опять она встает и идет с ним танцевать. Я громко, чтобы ей было
слышно, кричу:
– Шампанского! Шампанского сюда!
Выпиваю одним махом
бутылку. Снова он мнет ее в своих страстных объятиях. Она изгибается и то и дело
льнет к его ногам. Он прижимает ее крепкий зад, впиваясь в мягкую плоть.
Я
готов убить ее на месте. Когда она возвращается за столик, я кричу
снова:
– Еще шампанского!
Вдруг она встает и уходит, ничего не сказав
мне – ни слова, ни звука, ни взгляда в мою сторону – я не верю своим глазам.
Проходя мимо метрдотеля, она что-то озабоченно говорит ему вполголоса. Неужели
решила уединиться с этим смазливым жиголо?! Я залпом допиваю оставшееся в бокале
шампанское. Злоба во мне бурлит и закипает. Я мчусь наверх, в номер. Ногой
вышибаю дверь ее комнаты:
– Ах ты, стерва! Я хочу шампанского! Дай мне
деньги! Шампанского! Ты опять за свое?! Не смей больше танцевать с мужиками!
Потаскуха! Старая блядь! Ты посмотри на себя!
Изадора молча стоит с
расширенными от ужаса глазами. Потом вдруг говорит совершенно ровным и спокойным
тоном:
– Net, net deneg, Sergey.
– Нет денег? Куда же ты их
дела, тварь?! Спустила на свои попойки и любовников?! Шлюха!
– Net, net
deneg, Sergey, – снова повторяет она, ничего не понимающим
тоном.
– Ах, ты, черт бы тебя побрал! Дура! – бросаю я ей на
прощанье и ухожу.
Пришлось занять денег у швейцара. В ресторане я заказал еще
несколько бутылок шампанского, а когда и они кончились, я снова отправился
попросить взаймы. Но швейцар, видимо, уже предупрежденный этой старой тварью,
недовольно покачал головой в ответ. У-у-у-ух, стерва! Меня ослепила внезапная
бешеная ярость, и я напал на него с кулаками. Поколотив несчастного, я бросился
в номер Изадоры.
– Дай мне денег! Я хочу шампанского! Дай мне денег,
сука! – ревел я.
Она и Мэри заперлись в другой комнате. С яростью я
ломал в номере все, что попадалось под руку: стулья и столы, кровати, разбил все
зеркала, стекла, люстры и бра, графины и стаканы. Изрыгая проклятия и дикие
ругательства, я выломал с треском дверь гардероба и выволок все ее бесчисленные
блядские одеяния и шарфы:
– Старая шлюха! Вот тебе! Вот тебе!
Я
изорвал платья в клочья и развеял прах этих нарядов куртизанки и гетеры по
комнате. Потом заколошматил в дверь, где Изадора пряталась от меня со своей
Дести, но оттуда донесся глухой крик Изадоры:
– Sergey, ja zvat’ ljudi!
Uhodit’! Tcheichas prihodit’ police!
Я чертыхнулся, пнул, как следует, дверь
еще раз и ушел. Не помню, где я бродил всю ночь. Кажется, слонялся из одного
ресторана в другой. В каком-то из них меня избили и выбросили на улицу. Меня
подобрал таксист и отвез в отель.
Весь следующий день Изадора беспробудно
пила, заливая неприятные переживания. Уже наутро нас попросили съехать, но она
была не в состоянии, что либо соображать, так что отель мы покинули только через
день. Я все чаще бывал груб с Изадорой, и сам себе не мог этого объяснить. Я
винил ее в том, что оказался здесь, в этой чертовой загранице, благодаря ей, но
не силком же она меня сюда приволокла? Я же сам согласился и жениться, чтобы
избежать юридических формальностей, и приехать сюда… Нет же ее вины в том, что
мне здесь не понравилось, что я увидел здесь гниль и падаль. Она не виновата,
что, как и все вокруг, такая же гнилая…
Изо всех гостиниц нас теперь гнали
поганой метлой. Так что вскоре нам пришлось вернуться в Париж и разместиться в
доме, принадлежащем Изадоре, на рю де ла Помп – огромном особняке, вроде
московского на Пречистенке. Красивый дом с огромным Бетовенским залом.
В
Париже у нее были запланированы выступления. После первого Изадора устроила
прием для своих друзей. Меня тошнило от всех этих богемных и никчемных выскочек.
Для меня люди, которые восхищались танцами Изадоры, были чем-то вроде ничтожных
червей. Я обвел взглядом эту жалкую толпу и ушел наверх в свою комнату. Не
помню, сколько я проспал там, но проснулся от громкой музыки – кто-то из гостей
наигрывал сонату Бетховена. Я вдруг озверел и понесся вихрем вниз по лестнице.
Конечно, она опять танцевала! Поочередно подпрыгивали ее арбузные груди,
переливались половинки крупного зада, а в воздухе мельтешили полные руки.
Я
ворвался к ним в зал и заорал не своим голосом:
– Грязные подстилки!
Гнилые душонки! Чем вы восхищаетесь?! Посмотрите на нее! Это ради ее танцев вы
меня разбудили?!
На последнем слове я схватил канделябр и швырнул его, что
было мочи, в огромное зеркало в большой бронзовой раме. По стеклу побежали
трещины и трещинки, а в следующее мгновение тысячи осколков со страшным звоном
посыпались на пол. На секунду в зале воцарилась гробовая тишина. Потом со всех
сторон на меня накинулись мужчины, пытаясь удержать. Я брыкался и
неистовствовал. Изадора стояла и как-то торжествующе глядела на меня – настоящая
повелительница сирых и убогих. Закралась мысль, что она ждала этого скандала.
Для чего-то он был ей нужен.
Вскоре прибежали полицейские. Им удалось
нацепить мне наручники на руки и ноги, и в таком виде меня, извивающегося и
изрыгающего проклятия, доставили в комиссариат. Не помню, как я провел ночь в
участке, но на следующее утро в камеру вошли какие-то люди и, усадив меня в
машину, повезли за город. На все мои вопросы ответа я, естественно, не получал –
никто не понимал меня. Я пребывал в полнейшем смятении и хаосе. Оказаться в
чужой стране, не говоря ни бельмеса по-французски, и не знать, зачем и куда тебя
везут – что может быть страшнее?
За окнами пролетали леса и поля. Вот
показалась какая-то каменная ограда – высокая, белая. Под шинами зашелестел
гравий. Меня вывели, но тут же потащили внутрь огромного особняка, я даже не
успел оглядеться. Коридоры, коридоры. Судя по всему, меня привезли в клинику для
душевнобольных – везде решетки, призраки-пациенты в белых пижамах, никогда не
выключается свет, и не закрываются двери. Три дня я провел в этом кошмаре,
практически не сомкнув глаз от душераздирающих воплей, то тут, то там
разносящихся по серым мрачным вестибюлям. Мне кажется, я сам уже начал немного
сходить с ума. Здесь никто не говорил по-русски и я даже не мог спросить, когда
меня выпустят. За мной приехала сама Изадора. Я был очень подавлен, а она,
напротив, излучала уверенность. В дороге она сообщила, что меня высылают в
течение двадцати четырех часов из страны, и что мы едем в Россию. Я вздохнул с
величайшим облегчением. Наконец-то! Россия! Мы едем в Россию! С вокзала я сразу
же послал телеграмму Мариенгофу.
Глава 19
И снова Москва
Когда мы остановились на границе, Сергей вышел из вагона, встал вдруг на
колени и картинно поцеловал землю, шумно втягивая ноздрями воздух. Всю дорогу он
был очень возбужден. Я смотрела на него и мысленно уже прощалась с ним. В
Берлине я еще верила в то, что мы сможем быть вместе, но после всех ужасов,
произошедших во Франции, я поняла, что долго наши отношения не продлятся. Мы
любили друг друга, но жизнь вместе была просто невыносимой.
На перроне нас
встретил улыбающийся Илья Ильич. Я взяла руку Сергея, наклонилась к Шнейдеру и
по-немецки сказала:
– Вот я привезла этого ребенка на его Родину, но у
меня нет более ничего общего с ним…
Илья Ильич внимательно посмотрел на меня,
но ничего не ответил. Все вместе мы поехали в Литвиново, где отдыхала летом моя
школа. По дороге нам попалось стадо коров. Есенин, увидав бредущих животных,
вытянул шею и, провожая их взглядом, повернулся к нам:
– Коровы… –
широко улыбаясь, будто ребенок, сказал он. – А вот если бы не было коров?
Россия без коров, а? Ну, нет! Без коров нет деревни, а без деревни нет
России!
Машина наша сломалась, и пришлось идти пешком. Стемнело. Со всех
сторон обступали пугающие тени деревьев. Вдруг впереди замаячили огни. В
следующий миг нас окружила толпа радостно кричавших учениц, которые, не
дождавшись нас вовремя, отправились нам навстречу. В своих красных туниках с
розово-оранжевыми факелами в руках посреди черного леса они казались чем-то
неземным и волшебным. Я глядела на этих чудесных эльфов и не могла наглядеться.
Какое это было прекрасное зрелище!
Мы прожили в Литвинове несколько дней –
это были одни из самых счастливых наших дней с Есениным. Утром мы вставали и шли
в парк, усаженный шелестящими ветвистыми липами и раскидистыми узорчатыми
кленами. Ирма устраивала уроки прямо на зеленой лужайке. Свежий чистый воздух,
безмятежное солнце, заливающее леса и поля. Мы смотрели на танцующих детей и
погружались в безмолвную негу. Вечерами развлекали Илью Ильича шумными
рассказами о наших приключениях, весело перебивая друг друга. Иногда, вспоминая
что-то, взглянув с Сергеем друг на друга, мы начинали безудержно хохотать. Да,
хорошее было время!
Потом начались дожди. Небо затянула серая пелена. А мы
вернулись снова на Пречистенку. Уже на второй день Сергей и я повздорили: он
собирался опять куда-то идти, а я просила его остаться. Но, конечно, он все
равно исчез. Я уже смотрела на это с какой-то долей обреченности, но тело мое
отказывалось понимать и принимать это – стресс, тянувшийся много месяцев, дал о
себе знать. Я, как водится, перестала есть и спать, но на этот раз выглядела
совершенно ужасно. У меня даже не было сил подняться с кровати, дни напролет я
лежала и безнадежно рыдала. Тут уже вмешалась Ирма.
Она твердо заявила, что
мне нужно съездить в Кисловодск и полечить расшатанные нервы.
Я безропотно
согласилась. Достигнув крайней степени отчаяния, когда пропадает воля и желание
чего-либо, я поняла, что конец нашего брака все же неизбежен. Это был лишь
вопрос времени – когда?
Илья Ильич сообщил, что разослал людей на поиски
Есенина. Однако Ирма непреклонно заявила, что даже если он и найдется, то
пускать его не следует. Я промолчала. Потеряв уже всякую надежду на нормальное
сосуществование с ним, я просто решила плыть по течению: будь что
будет.
Вскоре Шнейдер пришел с известием о том, что Есенина нашли, он трезв и
сейчас придет. «И что? Сейчас он придет, будет просить прощения или наоборот,
сделает вид, что ничего не было, но потом? Что же будет потом? Опять исчезнет в
один миг? Растворится? Покинет меня в неведении? Я же опять буду страдать. Он
так жесток ко мне… Он – действительно ребенок, и, как и все дети, бывает очень
жесток…»
Я заметалась по комнатам, не зная, что делать, куда деваться, но
грозная Ирма заперла меня в своей. Забыв, впрочем, про дверь в другой коридор.
Вот через эту-то дверь и вошел Сергей. Я не слышала его шагов, сидя спиной. Он
наклонился надо мной сзади и прошептал:
– Изадора, я тебя очень люблю…
очень люблю…
Душа моя разрывалась на части. Мой ангел, свет моей жизни,
вернулся, вернулся ко мне! Он меня любит! Меня наполнило такое блаженство, что
по лицу градом покатились слезы. Я повернула к Есенину свое заплаканное лицо и
уткнулась в его плечо. Он тут же крепко прижал к себе мою голову и начал осыпать
ее поцелуями. Подняв глаза, я увидала, что из его васильковых глаз, ставших
почти прозрачными, текут слезы…
Глава 20
«Дорогие мои! Хорошие!»
В августе 23-го я вернулся, наконец, в Россию, в Москву. Первые месяцы после
приезда я летал окрыленный и опьяненный запахом родной земли. Все мне казалось
здесь прекрасным и настоящим – дома, деревья, люди…
Августа… Я встретил
Августу в августе… Нас познакомила Мартышон. Августа или Гутя, как ее называли
близкие, тоже была актрисой – очень красивая женщина: статная, ладная, с
огромными глазами и чувственным ртом. Она состояла в каких-то непростых
отношениях со своим бывшим или не бывшим мужем, танцором – очень его любила. Мы
встречались каждый день и много бродили по осенней золотой Москве. Я гладил
деревья, разговаривал с ними, взрывал ногою шелестящий ковер опавших листьев.
Она улыбалась и непонимающе смотрела на меня.
Я помню осенние
ночи,
Березовый шорох теней,
Пусть дни тогда были
короче,
Луна нам светила длинней!
Перед нею я робел. Она казалась
какой-то недостижимой и космической.
Помню, сидели как-то с ней и
Мариенгофами в «Медведе». Я глядел на нее и не мог оторвать глаз. Она отвечала
мне своим загадочным и необъяснимо притягательным злато-карим взором. Вся
какая-то неземная, нездешняя и недоступная.
– Я буду писать вам
стихи, – робко сказал я ей.
– Такие же как Дункан?! –
расхохотался Толя.
Я ничуть не смутился.
– Нет, ей я буду писать
нежные…
Первыми стихами, которые я посвятил Августе,
стали:
Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые
дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь
скандалить.
Я почти совсем не пил в этот период и много работал. Я забрасывал
Августу стихами и цветами, правда, на все мои ухаживания она едва отвечала и
оставалась все так же холодна.
Не хочу я лететь в
зенит,
Слишком многое телу надо.
Что ж так имя твое
звенит,
Словно августовская прохлада?
Но надо сказать, что она, в
отличие от сонма других, никогда не лгала, что тоже любит меня, оставаясь в этом
честной до конца. Да, ей льстило мое внимание, но как мужчина я был ей не нужен.
Может, это и завлекло меня, кто знает. Она никогда не стремилась заполучить
меня, охомутать, опутать, затащить под венец…
Однажды мы пошли на какой-то
званый вечер. Куча народа, веселье, вино рекой. Августа все время задумчиво на
меня смотревшая, вдруг предложила собравшимся:
– А давайте, пить вместо
Есенина сегодня буду я!
Она видела, что иногда я с трудом сопротивляюсь
уговорам моих «друзей». Идея эта мне понравилась. После каждого тоста Гутя под
столом помогала мне переливать вино из моего бокала в свой. Вдруг перед нами
выросла фигура Нади Вольпин, протягивавшей мне бутылку:
– Пей!
Я
отстранил ее руку, поморщившись:
– Пей! – истерично закричала
она.
Я встал. Внезапно она выплеснула вино прямо мне в лицо. Затем все тело
ее пронзила судорога, и она упала на пол. Надя билась в припадке. Поднялся
невообразимый шум, крики. Надю унесли. Я виновато поглядел на Августу. Лицо у
нее было каменным с застывшим выражением ужаса и одновременно презрения. Я
что-то пробормотал ей, но вечер был безнадежно испорчен. Конечно, Августа не
могла знать, что Надя была беременна и приревновала меня.
Надя… Мне кажется,
я помню ту ночь, в которую она зачала…
Вернувшись из Франции, я спешил
свидеться со всем, напоминающим мне родину, и со всеми, дорогими моему сердцу
подругами – Лидой, Надей, Женей, Галей… После кошмарных скандалов и ненасытной
требовательной похоти Изадоры душа моя просила легкости, воздушности…
необязательности…
Надю встретил я в какой-то из редакций. На радостях потащил
ее в «Стойло». Она похорошела, посвежела и немного округлилась.
– Вот и
хорошо: мне мягче будет, – усмехаюсь я в ответ на пошлую колкость
Мариенгофа по этому поводу.
В «Пегасе», как обычно, застолье. Я много
вспоминаю деревню свою, родителей, крестьянскую жизнь. Так хочется после многих
месяцев молчаний поговорить с людьми, понимающими меня, мою тоску, мою любовь к
России. Вспоминаю сурового деда, красавицу-мать. Заходит речь о стихах. Куда же
без них?!
– Кто не любит стихи, вовсе чужд им, тот для меня не человек.
Попросту не существует!
Да, это правда, стихи надо понимать и слушать не
умом, а сердцем. Читаю «Москву кабацкую», потом перехожу на любовную лирику –
читаю стихи, посвященные Гуте.
За столом тут же перешептываются, что-то
скабрезничают.
– Говорят, на редкость хороша!
– Давненько
говорят. Надолго ли хватит разговору?
– Не упустите, Сергей
Александрович, если женщина видная, она всегда капризна. А уж эта очень,
говорят, интересная…
Тут я не выдерживаю и, поморщившись,
говорю:
– Только не в постели!
Да, действительно, Августа была
настолько холодна ко мне, что распалить ее холодное нутро желанием никак не
удавалось. Только зачем я вот так это ляпнул? Зачем так гнусно и мерзко обидел?
Наверное, задели меня эти глупые шутки… То ли за себя обидно стало, что не
ответила мне Гутя взаимностью…Да еще и Надя тут сидела…
Друзья не
унимались:
– На что они вам, записные красавицы? Ведь вот рядом с вами
девушка – уж куда милей: прямо персик!
– Да, но этот персик я уже
раздавил! – отвечаю с сожалением и смотрю на Надю.
Она зеленеет от
злости:
– Раздавить персик недолго, а вы зубами косточку
разгрызите!
Я со смехом обнимаю ее.
– И всегда-то она так:
ершистая!
Надя за словом в карман не лезла – и язык у нее был такой
язвительный и ядовитый. Продолжаю ее дразнить:
– Вот лишил девушку
невинности и не могу изжить нежности к ней. Она очень хорошо
защищается!
Потом мы идем с ней вдвоем в кафе. Она молчит всю дорогу. Пьем
черный кофе. Мне неловко. Я хочу спросить у нее, ждала ли она меня. Знаю, ведь,
что нет. Это меня задевает.
– Я знаю, ты не была мне верна…
Но она
меня жестко обрывает на полуслове:
– Вы мне не дали права на
верность!
До чего же она смешная! Смешная и милая в своей горячности и
язвительности. Она с удивлением смотрит на меня хохочущего, и сердце ее
тает.
Идем к ней домой. Ласкаю ее губы, шею, крепкие груди. Она громко
стонет. Тут же прямо на пороге комнаты валю ее на пол. Жадно срываю чулки,
белье. Вхожу в нее страстно и напористо. Надя кричит. Я зажимаю ей рот рукой и
продолжаю ритмично двигаться. Она вся извивается. Льну к ее губам и в последней
судороге мы сливаемся в сладком вязком поцелуе. Мы любили друг друга всю ночь.
Наутро я бросил ей, уходя:
– Расти большая!
Были и другие, и чужие.
Были и долгие, и так – на одну ночь.
Этой имени даже не запомнил.
Черноволосая, смуглая, волоокая. Не взгляд, а огонь. Хищница! Сидела за соседним
столиком.
– Подождите, – говорю. – Не уходите: или я
проиграюсь, или выиграю, но к Вам приду.
Подхожу к ней с
Клычковым:
– Проигрался.
Денег нет. Лакею предлагаю в залог за вино
золотые часы. Не берет, собака.
Я пьяный. Говорю какую-то чушь заплетающимся
языком. Оправдываюсь:
– Дома – да не у меня, у старухи моей – куча
долларов. Веришь? Но я не пойду туда! Не-е-е-ет, брат! Мы туда не пойдем! Там
крысы! Я этот дом терпеть не могу!
Смотрю на нее. Сидит такая горячая,
распутная, готовая на все – девушка с библейскими глазами. Много лет назад я
встретил в Харькове такую же чернявую девушку с библейскими глазами – настоящую
Суламифь. Стояла весна, цвели каштаны.
– Сегодня вы будете моей! –
безапелляционно говорю ей.
Мы идем к выходу. Она, было, рванулась уйти или
попрощаться с кем-то, но я, опасаясь, что она передумает, сразу схватил ее за
руку.
– Будет литься кровь, но я Вас не отпущу.
Нас заметили. Кто-то
стал перешептываться. Скандала она явно не хотела, и мы вышли на улицу. Светало.
В повозке я пил ее алые хищные губы. За извозчика расплатиться нечем – пишу ему
на спичечной коробке адрес «Стойла Пегаса».
Веду ее в квартиру. Оставляю в
комнате, сам иду освежиться. Она в белой батистовой рубашке с кружевами, сквозь
которую просвечивается гладкое бронзовое тело. Подхожу и бросаю ее на
двуспальную кровать. Она раздвигает ноги. Подол рубашки заманчиво задирается.
Малиновая бездна манит меня. Мы сливаемся с ней в бесконечном безграничном и
бескрайнем экстазе. Ее черные библейские глаза – еще одна бездна. Я вижу их
яркий огонь даже в полумраке. Два уголька неотрывно смотрят на меня.
Шепчу
что-то бессвязное:
– Моя Шуламита! Дочь народа Исраэля! Ты стала
проводником моим, моим Вергилием, в древнюю культуру своего народа. Теперь я
буду писать о любви!
Утром приношу ей таз с водой. Голова трещит от выпитого
вчера. Солнце заливает комнату. Разглядываю свою ночную гостью. Хороша!
Вспоминаю то, что шептал ей в постели. Говорю, что Райх, моя жена, тоже была
еврейка. А Дункан… Дункан – тоже… но я с ней разошелся. Она мне отвечает, что
тоже разошлась с Евреиновым… Мне-то что до этого? Или решила сразу взять меня в
оборот? И она туда же? Не выйдет, господа хорошие! Так-то!
В дверь стучат.
Пришли из кафе, принесли денег. Извозчику вчера заплатили. Выходим на улицу. До
чего ж чудесное утро! Я потягиваюсь и шумно пью ноздрями звонкий прохладный
августовский воздух.
Потом я видел ее однажды еще в «Стойле Пегаса»… Она была
в чем-то прекрасном лиловом, красиво оттеняющем ее угольную красоту. Не
удержался:
– Я объездил много стран, видел очень много красивого, но
такой красоты не встречал!
Снова следит за мной горящим взглядом. Веду ее
вниз, в подвал. Там есть диван.
– Почему вы не пьете?
– С вами я
пьян без вина!
Она страстно извивается и покусывает мои губы. Любовная
схватка длится несколько часов. Уставший и обессиленный смотрю на свою Шуламиту.
Она еще полна огня.
– Зачем они мне подкладывают Миклашевскую? Вы
красивей и веселей. А она – айсберг!
Входят Клычков и еще кто-то. Она
вскакивает. Смущается, хочет уйти. Я нежно обнимаю ее за бронзовое
плечо:
– У Блока «из-за родинки пунцовой возле правого плеча», а у Вас
из-за родинки пунцовой возле левого плеча.
Клычков
ухмыляется:
– Почему вы не обвенчаетесь?
Смеюсь в ответ.
– Мы
уже давно повенчаны.
Была и Галя – неловкая, робкая, похожая на мальчишку… С
ней все было как-то неуклюже, а ведь так она меня любила. Странно, не правда
ли?
Вообще много их перебывало у меня в постели, а я перебывал в постелях
многих. Любил ли я их? В этом и состояла вся моя трагедия с бабами. Как бы я ни
клялся им в безумной любви, как бы ни уверял в том же сам себя, – все это,
по существу, – огромнейшая и роковая ошибка. Есть нечто, что я люблю выше
всех женщин, выше любой женщины, и что я ни за какие ласки и ни за какую любовь
не променяю. Это искусство. Искусство для меня дороже всяких друзей, и жен, и
любовниц. Но разве женщины это понимают, разве могут они это понять? Если им
скажешь, это – же трагедия: как же так, мол, а любовь – высшее и прекрасное из
чувств? А другая сделает вид, что поймет, а сама норовит по-своему. Но искусство
я ни на что, ни на кого никогда не променяю… Вся моя жизнь – это борьба за
искусство. И в этой борьбе я швыряюсь всем, что обычно другие считают за самое
ценное в жизни. Но никто этого не понимает и не хочет этого признавать. Все
хотят, чтобы я был прилизанный, причесанный, паинька. Я же отрекаюсь от всего…
От всего, что даже дорогого…
Я вернулся из Берлина и ушел с Пречистенки к
Мариенгофу, дождавшись, когда Изадора уедет на воды лечиться от своих припадков
ревности и пьянства. Прощаясь с ней, я обещал приехать. Все это время она и Илья
Ильич забрасывали меня телеграммами: «Darling ochen grustno bez tebya nadeyus
skoro priedesh syuda naveki ljublju Isadora», «Vieszhaem ponedelnik Tiflis
prieszhai tuda telegrafirui vyezde Oriant naveki ljublju Isadora», «Privetstvuju
v etot schastliveishij den zhelaju chtoby on mnogo raz povtorilsya lujblju
Isadora». Я старался отделываться ничего не значащими, но вежливыми и приятными
словами благодарности за все, что Изадора сделала для меня. Мне казалось, что
мой тон ясно дает понять о невозможности продолжения наших отношений. Но
решимости сказать ей об этом прямо в письме – не говоря уж о том, чтобы сделать
это при личной встрече – у меня пока не хватало. Я мучился мыслями о ее скором
возвращении и не знал, что предпринять. Одно я знал точно, если я увижу ее,
поговорю с ней наедине, то не смогу уйти.
У Мариенгофа только-только родился
ребенок, и оставаться у него было не совсем удобно – приходил я домой поздно,
часто пьяный и шумный. Вскоре я переехал к Гале, и мы стали жить вместе. Галя
все эти годы оставалась моей верной помощницей в литературных делах – ее всегда
можно было попросить занести рукопись, переписать правки, забрать причитающиеся
мне деньги. Я знал, что она влюблена в меня, но меня она, увы, не привлекала
совсем. Скорее, я был восхищен ее готовностью всегда и при любых условиях
помогать мне. Галя спасала меня от «друзей», вытаскивала из кабаков и давала мне
кров и ночлег. Она никогда не кричала на меня, не осуждала, не устраивала сцен
ревности, зная, что я встречаюсь и с другими женщинами тоже, не требовала любви
и верности – просто была всегда рядом. Она же помогла мне порвать с
Изадорой.
Однажды я проснулся и, полный решимости, написал телеграмму: «Я
говорил еще в Париже что в России я уйду ты меня очень озлобила люблю тебя но
жить с тобой не буду сейчас я женат и счастлив тебе желаю того же Есенин». Дал
прочесть это Гале, на что она резонно заметила, что лучше быть более кратким и
жестким. В итоге написал следующее: «Я люблю другую женат и счастлив Есенин».
Отправил. В ответ мне посыпались телеграммы, одна истеричнее другой. Изадора
просто завалила меня ими, вопрошая, мол, что, где, когда и как. Тогда Галя снова
вмешалась и отправила еще одну телеграмму, но уже от себя, рассчитывая сыграть
на ревности и женском самолюбии: «Писем телеграмм Есенину не шлите он со мной к
вам не вернется никогда надо считаться Бениславская». Вскоре пришел ответ –
Изадора недоумевала, а заодно решила уколоть соперницу: «Получила телеграмму
должно быть твоей прислуги Бениславской пишет чтобы писем и телеграмм на
Богословский больше не посылать разве переменил адрес прошу объяснить
телеграммой очень люблю Изадора».
Я вдруг пожалел, что Галя все это затеяла.
Ведь ревность Изадоры границ не знала – она легко могла примчаться и что-нибудь
сделать с ней, даже изувечить. Уже через несколько дней жена моя приехала в
Москву. Странно, но встреч со мной она не искала.
После моего приезда в
Россию я стал много пить. Меня постоянно звали то в одну компанию, то в другую,
а отказаться идти у меня даже в мыслях не было. Почему-то мои «друзья» очень
хотели, чтобы я вернулся к Изадоре. Может, хотели, чтобы я брал у нее деньги, и
мы на них пили, а, может, знали, что мое возвращение к ней приведет к моей
погибели.
В пьяных разговорах меня подзуживали и подговаривали ехать на
Пречистенку, и тогда я ехал, Есенин и Айседора Дункан но ничем, кроме скандалов,
это не заканчивалось. Пару раз меня накурили гашишем, а однажды дали понюшку
кокаина. Трудно описать мое состояние тогда – бесконечная череда мертвых
распутных пьяных ночей, и нет просвета. Только тьма впереди.
Глава 21
Сергунь
Когда Дункан уехала в Кисловодск, Есенин получал почти ежедневно телеграммы
от нее и ее секретаря Шнейдера. Эти телеграммы его дергали ужасно и нервировали.
Он не знал, как ему объясниться с ней, чтобы сразу все было кончено. Боялся, что
она будет его умолять и уговаривать остаться, и он не сможет
отказать.
Однажды он проснулся и утром написал телеграмму:
«Я говорил еще в Париже что в России я уйду ты меня очень озлобила люблю тебя
но жить с тобой не буду сейчас я женат и счастлив тебе желаю того
же
Есенин».
– Галя, посмотрите. Как вы
думаете, так хорошо будет?
Я пробежала листок глазами. «Как-то слишком много
объяснений, оправданий», – подумалось мне.
– Сергей Александрович,
если кончать, так уж лучше про любовь-то и не говорить вовсе. Да и покороче
надобно.
Перечитал телеграмму еще раз.
– Да, Галя, действительно. Вот
всегда вы знаете, как лучше для меня, – улыбнулся он.
Сел и переписал.
Принес потом другую:
«Я люблю другую женат и
счастлив
Есенин».
Правда, после того, как он ее
отправил, поток телеграмм от Дункан вырос вдвое. Я решила послать телеграмму от
своего имени, надеясь, что это уж точно охладит ее пыл:
«Писем телеграмм Есенину не шлите он со мной к вам не вернется никогда надо
считаться
Бениславская».
Такой вызывающий тон был
совсем не в моем духе. Вскоре пришел ответ:
«Получила телеграмму должно быть твоей прислуги Бениславской пишет чтобы
писем и телеграмм на Богословский больше не посылать разве переменил адрес прошу
объяснить телеграммой очень люблю
Изадора».
Есенин
сначала хохотал, а потом вдруг испугался за меня, чтобы Дункан ничем мне не
навредила: «Вы ее не знаете, она на все пойдет».
По мере приближения срока
возвращения Дунканши Сергей Александрович становился все мрачнее и мрачнее,
лихорадочно думал, куда же и как ему скрыться. Как раз в это время Клюев прислал
ему письмо, и Есенин тотчас же укатил в Петербург, попросив меня забрать его
вещи с Богословского ко мне. Однажды вечером зашла сестра Сергея Александровича
Катя и между делом сообщила, что старуха приезжает в четверг. Я спешным образом
поехала к Мариенгофу и забрала все чемоданы и сундуки.
Дункан уже была в
Москве. Приятели Сергея Александровича тут же принялись уговаривать его поехать
к ней, чтобы самому с ней объясниться и порвать отношения. По городу пошли
слухи, что Есенин, мол, воровал у нее деньги заграницей, подворовывал у нее
платья для своих сестер и любовниц, костюмы и парикмахерские принадлежности –
для друзей. В общем, гадость и грязь. Особенно, если знать, что мы даже хлеб в
булочной покупали в кредит.
Как-то днем зашел к нам Аксельрод. Клюев был уже
у Есенина. Когда я вошла в комнату, Сергей Александрович одевался.
– Вы
куда?
– К Дункан! – торжествующе отвечает Аксельрод.
Я смотрю на
Есенина. Тот очень возбужден и взбудоражен, глаза бегают.
– К Дункан?!
Сергей Александрович, сейчас это не время. Может…
– Галя, я еду! –
раздраженно перебил Есенин.
Я поняла, что отговаривать его сейчас бесполезно.
Будет мне урок – нечего было пускать Клюева и Аксельрода.
– Галя, не
волнуйтесь. Мы его вернем вам через два часа, – с издевкой произнес
Аксельрод.
– Ну что же, до свидания! – попрощалась я.
Через час
он не вернулся, и через два, и черезтри… Я поняла, что его уговорили там
остаться, что может быть в этот самый момент он целует и обнимает свою Дунканшу.
Я прекрасно понимала, что сравнение с ней явно не в мою пользу. Но я также
понимала, что как только у него снова появятся проблемы с ней, он тут же
прибежит ко мне. Не могу сказать, что мне это льстило, но все же я была
счастлива видеть его рядом.
Я легла спать, когда в дверь постучали. Смотрю на
часы – два часа ночи. Неужели вернулся? Бегу открывать – увы и ах! Клюев на
пороге – гладенький, прилизаненький, благообразненький:
– Все не спите,
Галя, тревожитесь. Вот ведь жизнь-то какая – вся в мучениях и страданиях, а
Сереженька-то… Ну что с него взять – пропащий он человек. Да и не стоит он
такой-то любви как ваша. Не стоит. Ничего не видит, не ценит. Зачем он вам? Я
его вот звал-звал домой, а он ни в какую… Ну так вот зашел к вам один, чтобы
хотя бы успокоить. Да зайдем-ка в комнату, поговорить.
Я спокойно выслушала
этот заготовленный монолог, закутавшись в теплую шаль поверх платья, и молча
отступила назад, пропуская его в переднюю. Зашли в комнату. Он присел на краешек
кровати.
– Зачем тебе этот гуляка? Такая красавица из-за Сереженьки
пропадает! Другой бы молился на тебя, а Сереженька… Да вон у тебя портрет на
стенке висит – что за человек? Лицо какое хорошее. Вот с таким можно счастливой
быть.
И все в таком духе. Я слушала молча и с интересом, хотя ничего нового в
его словах для меня не было. Наутро Сергей Александрович не появился, да и весь
день его не было. Вечером я отправилась в «Стойло» за деньгами.
– Сергей
Александрович заходил?
– Да, да, они здесь. Там… б-о-о-ольшая
компания.
Ну все, думаю, загулял совсем. Захожу в зал. В отражении зеркала на
стене вижу Есенина, еще двоих мужчин и Дункан. Вот она! Сердце у меня бешено
заколотилось. Вот она, моя соперница! Я прохожу мимо них и, смотря в глаза
Есенину, здороваюсь кивком головы. Ох, ничего не вижу вокруг, только его
васильковые глаза, устремленные теперь на меня. Он что-то шепчет Дунканше,
которая уже давно не отрывает от меня своего взора. «Какая же она старая! –
изумилась я про себя. – Да, следы былой красоты имеются, но развратная и
беспутная жизнь наложила на нее такой отпечаток! Какая потасканная! И к этой я
ревновала его?».
Я иду к кассе. Получаю деньги. Сзади вдруг подходит Есенин и
шепчет:
– Галя, ничего, понимаете, ничего не изменилось. Так надо. Я
скоро приду. И деньги берите здесь, как всегда. И вообще, все по-прежнему.
Он
был очень взволнован. Наверное, решил, что я не приму его больше, раз он исчез.
Но мне на это было наплевать. Я знала, что никому он больше не нужен, кроме
меня, и никто кроме меня о нем не позаботится.
– Хорошо. Только
обязательно предупредите, если что-либо изменится.
– Да нет же,
Галя! – с горячностью шепчет он. – Ничего! Понимаете, ничего не
изменилось!
Ничего не изменилось – сказал он, и снова не пришел ночевать. Я
не знала, куда деть себя. Помучавшись от бессонницы несколько часов, приняла
капли и, наконец, забылась мертвым сном. На следующий день в начале шестого
заглянула в «Стойло» в надежде, что увижу его там. И действительно – в ложе
вместе с Клюевым, Ганиным, Аксельродом и Приблудным сидит Сергей Александрович –
пьяный, злой, запуганный. Он выглядел как загнанный в угол зверь. Я подошла к
этой компании. Со мной сдержанно поздоровались – они и раньше не выносили меня,
из-за того, что я не давала Есенину пить. Села рядом с ним. Внезапно чувствую на
своей руке его мертвую хватку. Он наклоняется ко мне. Запах перегара ударяет в
нос.
– Надо поговорить, не уходите только, – шепчет так, чтобы
никто не слышал.
– Хорошо, – тихо говорю в ответ. – Только не
пейте больше! Не надо! Вам уже хватит.
– Да-да-да, Галя, хорошо. Сейчас
меня будут тащить к Изадоре. Пожалуйста, не давайте им! Не пускайте меня! Иначе
я погибну! – глаза его подернулись слезами.
Тут же Аксельрод, видимо,
заметив наше возбужденное перешептывание, громко объявляет:
– Сережа,
пора ехать!
– Да-да, сейчас, давай только вина еще
закажем.
Вмешиваюсь я.
– Сергей Александрович никуда не поедет! Он
нездоров, ему нужно домой.
Мне все равно, что сейчас на меня обрушится вся
эта честная братия. Есенин для меня дороже всего на свете.
– Как это он
никуда не поедет?! Его уже ждут! Он сам дал честное слово! А Дункан так вообще
сказала, что без него не сможет выступать! Вы что?! Хотите испортить ей вечер ее
школы?!
– Так Сергею Александровичу-то какое до этого дело?! –
вскипаю я. – Он что обязан? Да и возвращается он с Пречистенки совсем
больным!
– Ну да, конечно, вам не хочется его отпускать от своей
юбки, – язвит Аксельрод, зная, как Есенин может отреагировать на указание
того, что он подчиняется мне.
– Да что вы право? Мне до этого и дела
нет, – смеюсь. – Ежели бы он оттуда спокойным приходил – да
пожалуйста!
– Галя, вы как женщина не понимаете вопросов чести. Сергей
Александрович слово дал! Как же он его теперь не сдержит? Это же
позор!
– Какая честь? Смешно даже вас слушать! Человек болен, неужели вы
не видите! – в голосе моем звучит раздражение и жесткость. Я резко встаю и
вызываю Есенина в коридор:
– Сергей Александрович, отойдемте на минутку.
Надо поговорить!
– Да вы что? нам уже пора! Едем и никаких! –
понеслось со всех сторон.
Я изумленно смотрю на толпу этих прихлебателей –
как же они усиленно сплавляют его к ней. Прямо так и жаждут увидеть, как он
поскорее загнется!
– Я вернусь через минуту, – успокаивает их
Есенин.
– Галя, – шепчет он в коридоре, поминутно испуганно
озираясь по сторонам. – Вот рукопись. Спрячьте, пожалуйста. Только не
смотрите! Это сумасшедший почерк! Я записал, когда был пьян. Представляете,
первый раз в жизни записал стихи в таком состоянии…
– Сергей
Александрович, хорошо. Спрячу. Да что с вами творится такое?
– Галя, они
затащили меня туда. Оставили наедине. Вино рекой. Я все время пьян. Ни черта не
соображаю. А Клюев-то какой подлец?! Гашиш мне дал! Он меня отравит, я знаю! Я
чувствую, что умру скоро, Галя! Галя! – голос его становился все более
хриплым и прерывистым, в нем звучал какой-то животный страх. Я не прерывала его
бессвязную речь. – Галя, вы ничего не знаете! Он никого не любит! Спасите
меня! Не пускайте туда!
Внезапно он начинает шарить руками по карманам и
вытаскивает мундштук от гильзы с белым порошком. Да что это?! Не верю своим
глазам. Кокаин?!
– Это Аксельрод дал. Я уже раз понюхал – что-то не
действует…
– Да вы что?! Совсем сошли с ума?! – от ужаса я громко
закричала и с силой ударила его по руке. Гильза упала на пол с глухим звоном,
белый порошок рассыпался.
Он испуганно и затравленно посмотрел на меня, как
нашкодивший ребенок. Я полчаса ругала его, пока он не дал мне обещание, что
никогда и ни за что.
– Галя, а у вас есть револьвер?
– Да,
Сергей Александрович. Я всегда ношу его с собой. А зачем вы
спрашиваете?
– Галя, вас хотят избить!
– Да кто же?! –
удивляюсь я, оглядываясь по сторонам. Мимо нас все время проходит кто-то из его
компании. Шпионят, сволочи! Он хватает меня за руку:
– Галя, носите
всегда с собой револьвер! Вас могут избить! Они хотят затащить меня туда! –
кивает головой в сторону воображаемой Пречистенки.
Я решила, что он бредит,
но потом, поразмыслив, все же решила остерегаться. На что еще готовы были эти
люди, чтобы убрать на пути всех, кто препятствовал им спаивать и доводить до
погибели Есенина?
Мы вернулись назад к столу. Есенин о чем-то говорил с
приятелями, а я находилось будто в тумане, и в ушах звенела его фраза про
револьвер. Наконец, Есенин решился поехать куда-нибудь успокоиться. Предложил –
в ночную чайную. Уговаривать было бесполезно – он не слышал и не воспринимал то,
что я ему говорила. Нечего делать – поехали. Ночная чайная – то еще развлечение:
сомнительные люди, разбойники, бродяги, проститутки, наркоманы, просто пьяницы.
Вдвоем с пьяным Есениным, который едва держался на ногах, было страшновато там
находиться. Все столики были заняты, но он решил выпить пива у стойки. Рядом со
стойкой сидел цыган. Он уступил мне место, но я не села. Есенин подумал, что тот
пристает ко мне. Чуть было не затеялась драка. Наконец, мы благополучно сели на
извозчика, который и помог мне дотащить к тому времени уже совершенно пьяного
Есенина. Дальше пришлось тащить самой. Я с трудом ухватила его за руки и
поволокла к лифту. В лифте Есенин очнулся, открыл глаза и совершенно ошеломленно
спросил:
– Да что же это? Где мы? Что со мной?
Может, ему что-то
подсыпали в вино? Что он там болтал про Клюева? Ладно, разберемся! Какое
счастье, что мы уже дома!
Есенин лег спать, а я еще долго сидела подле него и
смотрела на его золотые кудри и беззащитное лицо, как у ребенка.
Проснувшись
утром, Есенин мало что помнил. Весь день он не пил, опасаясь, что опять явятся
его «друзья» и потащат к Дунканше.
Он был в хорошем настроении, и я решила
этим воспользоваться. Мне не терпелось узнать, почему же он так боится вернуться
на Пречистенку и осталось ли у него что-нибудь к старухе. Да, конечно, у меня
были свои интересы, но все же я считаю, что заслужила право хотя бы знать об
этом. Есенин много рассказал про то, как она начинала карьеру, про то, как ей
пришлось пробиваться в жизни, когда ее искусство не принимали. Я спросила, любит
ли он ее до сих пор.
– Галя, нет, – задумчиво ответил он. –
Была страсть и большая страсть. Долго это длилось. Но потом… – он развел
руками. – Все кончено, Галя. Ничего нет. Ничего уже не осталось.
На
какой-то миг мне показалось, что он говорит об этом с некоторой долей
сожаления.
– Я был слеп. Я ничего не видел. Одна только страсть. Теперь
я прозрел!
Он рассказал мне об их частых скандалах, ссорах, ревности. Про то,
как он разбил зеркало, а она сдала его полиции, а потом упрятала в сумасшедший
дом.
– Галя, да разве это можно простить? Такое предательство! Никогда
не прощу ей! Я там сам чуть с ума не сошел! Представляете? Сидеть вместе с
сумасшедшими, которые стонут и кричат ночи напролет? После этого мне теперь все
время кажется, что меня преследуют…Это же ужас!
Я не знала, что и отвечать
ему. Мне не хотелось выдавать своего злорадства по поводу ее мерзкого поведения
– не тот был момент, его надо было сейчас пожалеть. Я робко
вставляю:
– Сергей Александрович, я не хочу защищать ее, но, наверное,
ее можно понять с чисто женской точки зрения. Она растерялась, не знала, что
предпринять, как действовать… Вы сами вынудили ее так поступить. Ведь она вас
любила.
– Да, Галя! Она меня очень любила! Любила до умопомрачения. Да и
сейчас любит – я знаю. Если бы ты знала, как она была нежна со мной! Как мать!
Все время говорила, что я напоминаю ей погибшего сына. Знаешь, ведь она потеряла
троих детей.
Он повторил:
– Она со мной очень нежная была, как мать.
В ней вообще очень много нежности.
«Очень мило», – подумала я, –
обсуждать ее любовь и нежность со мной, зная, что я люблю его больше всего на
свете и забочусь о нем, как никто другой. Да, хорошо, убедил – она его любит.
Так что же он?
– Сергей Александрович, а вы ее еще любите? Может, вы
себя обманываете и зря бежите от нее и от самого себя?
Он не раздумывая ни
секунды, твердо ответил:
– Нет, там все кончено. Было и кончено. Пусто,
понимаете, Галя, совсем пусто. Нет никаких причин толкать меня туда.
У меня
вырвался вздох облегчения. Значит, я могла ему верить. Как-то так сложилось в
наших отношениях, что мне он всегда говорил только правду. Бывало, вот так сидим
с ним, говорим по-честному, задашь ему неудобный вопрос – поморщится и скажет:
«Ну, нет, этого я вам не скажу». Но чтобы соврать, глядя глаза в глаза – такого
не было никогда.
Итак, я могла быть спокойна. Ее он не любит. Неужели у меня
есть шанс? Неужели за столько лет преданной и верной службы я дождусь награды?
Раньше я несколько раз порывалась прекратить встречаться с Есениным как женщина,
собираясь остаться лишь другом и ничем более. Такая унизительная ситуация меня
тяготила. Я даже одно время увлеклась Л., но потом осознала горькую правду – от
Сергея Александровича мне не уйти. Я слишком любила его. Теперь у меня была
надежда, что его свободное сердце сможет тепло отозваться и мне навстречу. Я
верила в это. Конечно, так как Райх, он уже никого и никогда не полюбит.
Но…
Когда он вернулся с Кавказа, то говорил мне, что если к нему приставали,
он отвечал: «У меня есть Галя». Потом предупредил: «Берегитесь меня обидеть!
Если у меня страсть к женщине, я становлюсь безумным. Я все равно буду
ревновать. Вы даже не представляете себе, что это. Вы вот уйдете на службу, а я
не поверю и не отпущу вас. А если мне, не дай бог, что покажется, то дело ваше –
труба! Бить буду! Я двух женщин бил, Зинаиду и Изадору, и не мог по-другому.
Любовь в моем понимании – это страшное мучение. После этих приступов ярости я и
не помню ничего. Я боюсь, что с вами будет тоже самое, что я буду бить вас, но я
не хочу этого! Понимаете? Вас бить нельзя!»
Я глядела на его взволнованное
лицо и нахмурившиеся брови и смеялась:
– Сергей Александрович, меня-то
вам не придется бить!
Я всегда была с ним очень робкой и старалась
действовать только уговорами – никаких криков, ультиматумов, поэтому понять не
могла, за что же он меня будет бить. И Райх, и Дункан действовали одинаково –
если им что-то не нравилось, они устраивали глупую истерику с воплями и
условиями. Я ведь была совсем не такая, предпочитая действовать осторожно. Ну
нет, их ошибок я повторять не собиралась!
По обыкновению Есенин облачился в
свою пушкинскую крылатку и цилиндр – в таком виде он часто ходил по Москве,
желая походить на великого поэта. Мы собирались поехать в «Стойло». Есенин очень
боялся, что туда заявится Дункан и устроит скандал. Решили договориться, что я
уйду на всякий случай на полчаса, а он ее быстро выпроводит, чтобы к тому
времени, когда я вернусь, ее уже там не было. Пока мы уславливались, с вечера
Дунканши приехали Катя и Марцел Рабинович. Катя сказала, что Дункан, уже
порядочно выпившая, поехала домой. Есенин выслушал это известие с огромным
облегчением и весь остаток дня ходил веселый и радостный.
Правда, с Дункан он
все же встретился еще раз. В тот вечер он был пьян – снова его дружки
постарались. Они же и подбили его поехать. Я подсказала ему, что лучше бы взять
кого-нибудь с собой, чтобы Дункан не смогла уговорить его остаться. Предложила,
было, свою подругу Аню Назарову, но потом поняла, что она сможет выяснить нашу с
ней связь и тогда заявится ко мне.
– Екатерина, едем к Дункан! –
обратился Есенин к вошедшей вдруг Кате.
– О, прекрасно! Это очень
хорошо, Сергунь, милый! Катя вытащит тебя оттуда!
Катя ехать не хотела,
боялась сцен и скандалов, о которых так много слышала вокруг. Мне удалось все же
ее уговорить. Я осталась ждать результатов поездки. В этот день он должен был
окончательно порвать со старухой.
Глава 22
Русская любовь
Получив телеграмму от загадочной Бениславской, я не находила себе места. Я
целыми днями бродила по Ялте и окрестностям, стараясь избавиться от тяжелых
мыслей и ожидая отъезда в Москву. Кто она? Знаю ли я ее? Возможно ли, чтобы так
быстро Сергей влюбился и даже женился? Он же сказал, что любит, когда мы
прощались… На груди моей словно лежал неподъемный камень – так тяжело было
дышать. Весь мир превратился в маленькую щелочку света, а я находилась в
страшной и пустой темноте.
Илья Ильич принес свежий номер «Красной нивы». Я
бросилась пролистывать его в надежде найти стихи Есенина. На седьмой странице я
увидела заветную надпись на кириллице. Обрадованная я попросила Шнейдера
перевести:
Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в
России.
Знаешь ты одинокий рассвет,
Знаешь холод осени
синий.
Я прервала его и восторженно воскликнула:
– Это он обо мне
написал!
– Мисс Дункан, нет, вы неправильно поняли. Речь идет о какой-то
русской женщине.
– Да нет же, Илья Ильич! Это он мне написал! Он всегда
говорил, что у меня русская душа!
Он не стал больше спорить, хотя ничто бы не
могло убедить меня в обратном.
Мы вернулись в Москву. До меня сразу же
донесли слухи о романе Есенина с какой-то актрисой. Но я решила, что с меня
хватит! Он ясно дал мне понять, что любит другую. У меня тоже было самолюбие, и
я никогда бы не унизилась до того, чтобы бегать за ним и просить его быть со
мной. Раньше я возвращала его, потому что он говорил мне о своей любви, теперь
же…
Я не искала с ним встреч, а полностью погрузилась в работу, тем более,
что дела в школе шли неважно. С детьми мы разучивали ирландскую джигу. На один
из концертов пришел Есенин. Илья Ильич потом рассказал мне, что он появился за
кулисами в момент, когда я танцевала «Славянский марш». Он увидал, что Есенин
рвется на сцену, а его держат под локти два милиционера. Он вырывался и, ударяя
себя кулаком в грудь, то и дело повторял:
– Я Дункан! Оставьте меня! Я
Дункан!
Илья Ильич подошел к ним.
– Это к вам? – спросили его
стражи порядка.
– Да-да, это со мной, – поспешил спасти он
Есенина.
– Илья Ильич, а я Изадоре цветы послал!
– Знаю, знаю!
Тише! «Славянский марш!»
– Я хочу посмотреть на нее!
– Хорошо,
но обещайте, что будете стоять тихо!
Он провел Есенина к первой кулисе. Через
несколько секунд Сергей не выдержал и начал громко
шептать:
– Изадо-о-о-ра! Изадо-о-о-ра!
Я ничего этого не слышала. Я
танцевала с упоением и, забыв обо всем – о своей несчастной любви и о нем. Зал
грохотал. Аплодисменты оглушали. Я была счастлива, и по лицу моему текли слезы.
Откланявшись, с огромными охапками букетов, я пошла за кулисы. И вдруг увидела
Есенина. Золотистые волосы и два блестящих ярко-синих глаза. Мне казалось, что я
вышла из темноты на яркий солнечный свет. Меня залила всеобъемлющая
нежность.
– O-o-o, darling! – вырвался у меня дрожащий вздох.
Я
бросилась обнимать его и обвила руками его шею. Он был такой родной, такой мой.
Я уткнулась ему в плечо, а он принялся целовать мои руки.
– Sergej!
Angel moj! Zhizn moja!
Раньше мне казалось, что я обижена на него, но теперь,
увидев Есенина перед собою, я поняла, что ошибалась. Я любила его еще больше,
чем прежде, и никакие его выходки не могли этого изменить. Мой ангел снова был
со мной – и это все, чего я хотела в этой жизни.
– Sergey, ehat’ kushe!
Kushe! Prechistenka!
Он поспешно и радостно закивал.
– Только пусть
Катя тоже поедет с нами!
Я насторожилась – что это за Катя еще, но он тут же
заторопился пояснить:
– Изадора, систра! Катя – систра!
– Ah,
sistra! Khorosho! Sistra! Ehat’, ehat’!
Схватив меня за руку, он крепко сжал
ее и с горячностью затараторил:
– Знаешь, Катя – гений! Как Шаляпин! Как
Дузе! Она так поет! Рязанские песни! Мои любимые песни, Изадора! Чудо! Ты должна
послушать!
Катя стояла рядом и ничуть не смущалась. Немного похожая на брата,
но с темно-русыми волосами. Мне показалось, что она смотрела на меня с небольшим
презрением.
Мы поехали на Пречистенку. Компания, как и всегда, собралась
большая. Есенин был в возбуждении.
– Спой, Катя! – требовал
он.
Катя запела какую-то тоскливую и красивую песню. У нее был приятный
высокий голос. Все аплодировали. Больше петь Катя не стала. Было видно, что ей
здесь неуютно. Есенин сидел в каком-то раздумье. Он молчал, прикрыв глаза рукой.
«Что с ним? – тревожно подумала я. – Опять тоска? Но здесь же он дома!
Что же случилось?» Я тихонько подошла к нему и, наклонившись,
прошептала:
– Sergej, njet pit’! Stop!
В следующее мгновение он резко
вскочил, как пружина, ударил кулаком по столу и отошел в сторону. Я не знала,
что делать дальше и стояла в недоумении. Неужели опять будет
скандал?
– Старая шлюха, ты достала меня!
– Sergey, ja tebja
ljublju! – попыталась я его успокоить привычной фразой. Мне было неловко
перед Катей.
– Ты меня любишь?! Ты меня любишь?! Да знаешь ли ты, что я
как только приехал в Москву, так сразу переспал с другой бабой, что я начал,
наконец, снова писать стихи! Тебе это о чем-то говорит?! Я начал писать стихи о
любви! Тебе я стихов о любви никогда не писал! А знаешь ли ты, моя дарлинг, что
от меня беременны аж две бабы?! Что ты на это скажешь?
Он победоносно смотрел
на меня. Затем его взгляд вдруг остановился на стеклянной полке, где стоял его
бюст, вырезанный Коненковым из дерева. Он вдруг бросился и пододвинул стул,
взобрался на него и потянулся за скульптурой. С трудом достав бюст, Сергей
спустился на пол. В комнате царила мертвая тишина. Все стояли в оцепенении. Он
обвел нас тяжелым ненавидящим взглядом и ушел, хлопнув с оглушительным треском
дверью. За ним, не попрощавшись со мной, выбежала Катя.
Некоторое мгновение я
стояла в каком-то оцепенении. Потом, спохватившись, бросилась за Сергеем в
коридор. Но его там не было. Илья Ильич побежал проверить, заперта ли входная
дверь – да, закрыта на ключ. Шнейдер зашел в детскую столовую. Я услышала его
удивленный возглас. Подойдя к нему, я поняла, почему он вскрикнул: одно окно
было открыто – Есенин шагнул на улицу прямо из окна. Больше я его не видела
никогда.
Я еще оставалась в Москве какое-то время, и до меня регулярно
доносились вести, что у Есенина крупные неприятности, что из-за стихов, которые
он написал про заграницу, началась его травля, что он порвал со своими
единомышленниками-поэтами, что он ведет беспорядочную жизнь, полную случайных
связей, что он пьянствует и редко бывает трезвым, и наконец, что он попал в
клинику для душевнобольных.
Каждый такой слух или известие были для меня
ударом в самое сердце. Мне все еще казалось, что я могу спасти его, но он не
хотел, чтобы его спасали и, тем более, чтобы его спасительницей стала я. Мне
пришлось признать свое очередное поражение в любви, как это ни печально. Я
бывала счастлива, но счастье мое всегда обрывалось и ускользало из рук…
Зимой
мне удалось увидеть ту, которой он посвятил свои стихи, бросив меня.
31
декабря 1923 года я позвонила актрисе Лизе Александровой и пригласила их с
Соколовым на Пречистенку. Она сказала, что нет, они не смогут, потому что не
одни, у них Миклашевская. Я оживилась. Я помнила это имя, и когда Лиза
пригласила меня приехать к ним, сразу же, не раздумывая ни секунды,
согласилась.
Были еще и Мариенгоф со своей невзрачной некрасивой женой. Я
вошла и сразу же выцепила соперницу взглядом. Она была довольна красива, хотя ее
взгляд – тяжелый, исподлобья – мне не понравился. Мне виделось, что она должна
быть много моложе, но нет… Я бы дала ей лет тридцать.
Я поздоровалась со
всеми, а ей вместо приветствия заносчиво сказала:
– Ti otnyat' mush u
menja!
Повисла неловкая пауза, но мне было плевать. Я смотрела на
Миклашевскую во все глаза, пытаясь понять, что же в ней есть такого, чего нет у
меня, и почему Сергей посвятил ей такие нежные романтичные стихи…
Она
вопросительно смотрела на меня, когда я, особо не церемонясь, села подле нее и
стала рассматривать.
– Krasif? Nu, njet! Ne ochen, – покачала я
головой.
– Nos krasif? Moj nos tozhe krasif, – я презрительно
усмехнулась. – Prihodit’ na chai! Ja polozhit’ v chashku jad! Jad polozhit’
tebe!
Хозяйка пробовала меня отвлечь и суетилась вокруг с чашками, но я не
обращала на нее ни малейшего внимания – я еще не все высказала своей
сопернице.
– Esenin v bolnits! Vi nosit’ frukty, tsvety!
Я не
понимала, как она может сидеть здесь, с нами, праздновать новый год, когда он
лежал в палате, одинокий и брошенный всеми. Миклашевская сидела и отстраненно
молчала. Я думала, она будет что-то вызывающе и презрительно отвечать мне или
даже оскорблять, но она не говорила ни слова и все также тяжелым взором глядела
на меня. Я немного смягчилась. Сбросив с себя чалму, я сказала:
– Vsja
Evropa znait Esenin byl moj mush! Perviy raz zapel pro ljubov vam?! Njet, mne!
Est’ plohoi stihotvoren’ – «Ti takaya prostaya kak fse» – eto
vam!
Миклашевская чуть дернула бровью, но оставалась безмолвной. «Интересно,
она в постели такая же?» – подумалось почему-то мне. – «Ну, значит, тогда
Есенину с ней не долго бывать». Да, Сергей любил женщин страстных, таких же, как
и он сам. Он бы и месяца не протянул с такой ледышкой в кровати. Эти мысли
внесли некоторый покой в мое состояние.
Потом я увлеченно начала рассказывать
гостям про Есенина, как он скучал заграницей, про наши глупые и громкие
скандалы. Мы смеялись. Я много пила и мне было хорошо у них, хорошо рядом с той,
которая его обнимала и целовала также, как это раньше делала я – мне казалось,
что так я становлюсь ближе к нему.
Светало. Пора было идти домой. Лиза
предложила чаю. Но по утрам я всегда пила шампанское.
– Лиза, какой чай?
Что такое чай? Шампанское! Чай по утрам пусть пьют бедняки!
Шампанского!
Электричество потушили, и мы сидели в предрассветных сумерках. Я
вдруг поняла, что меня никто больше не ждет, что я не услышу больше хриплый
голос моего ангела, не поглажу его по золотым шелковистым кудрям, не загляну в
васильковые глаза, полные солнечного сияния, и не дотронусь до его
молочно-белого гладкого тела.
Это был прекрасный сон, а теперь я проснулась,
и передо мной во всей неприглядности открылась страшная действительность – его
больше нет рядом со мной и не будет никогда. Я скучала по нашим с Есениным ночам
нежной и страстной любви, когда он ласкал меня без устали ночами напролет, по
нашему смешному и глупому недопониманию из-за языка и даже нашим яростным и
бешеным сценам ревности. Глаза мои наполнились жгучими слезами. Я едва могла
дышать.
– Я не хочу уходить, мне некуда уходить… У меня никого нет… Я
одна…
Глава 23
«До свиданья, друг мой, до свиданья!»
После разрыва с Айседорой Дункан Есенина одна за другой начинают преследовать
неприятности. На поэта заводят несколько уголовных дел. По одному из них его и
четырех его друзей обвинили в антисемитизме: якобы, они, сидя в кафе и обсуждая
литературу, а также вопрос создания нового журнала, нелицеприятно высказались о
евреях, заявив о засилье «жидовских морд» в этой сфере искусства. По «еврейскому
вопросу» над Есениным, Ганиным, Орешиным и Клычковым состоялся даже
«товарищеский суд», который, впрочем, оправдал их, оставив обвинения лишь в
пьянстве и дебоширстве. Сам Есенин свое юдофобство отрицал, говоря своему другу
и ученику Эрлиху:
– Да, что они сговорились что ли? Какой антисемитизм?
Антисемит – антисемит… Да у меня почти все друзья евреи и жены-еврейки. Да и
дети-евреи, получается…
Очень часто Есенин оказывался в центре драк, которые
были спровоцированы, и так оказывалось, что зачинщиком скандалов оказывался
еврей, однако в результате дело выставлялось в ключе антисемитизма.
В газетах
развернулась травля поэта. Он и сам не раз давал для этого повод. В последние
годы жизни он много пил, что, естественно сопровождалось скандалами в
общественных местах. В кафе, где появлялся Есенин, всегда дежурил
сексот.
Здоровье поэта ухудшалось с каждым днем. После «товарищеского суда»
он угодил с нервным срывом в профилакторий. У него появляются навязчивые мысли о
смерти и мания преследования. Один из знакомых поэта В. Кириллов вспоминал, что
в тот период Есенин был печален и часто говорил о своей болезни, о том, что
устал жить, что уже вряд ли создаст что-нибудь значительное, что скоро умрет:
«Чувство смерти преследует меня. Часто ночью во время бессонницы я ощущаю ее
близость… Это очень страшно. Тогда я встаю с кровати, открываю свет и начинаю
быстро ходить по комнате, читая книгу. Таким образом рассеиваешься».
Более
всего, Есенин боялся сотрудников милиции. По многочисленным воспоминаниям
друзей, он убегал прочь, как только видел милиционера, а, кроме того, ему часто
мерещилась слежка. Как-то в начале зимы поэт возвращался домой на Богословский.
Не удержав равновесия, он случайно выбил стекло на лестничной клетке и упал
прямо на осколки, сильно поранив левое предплечье. Есть версия, что был он в тот
день не один, а шел вместе со своим знакомым Марцелом Рабиновичем – сотрудником
ГПУ. Истекающего кровью Есенина нашла обеспокоенная его долгим отсутствием Галя.
Поэт оказался в Шереметьевской больнице, где пробыл больше месяца.
Все это
время рядом с Есениным находится Галя, его верная помощница и бывшая сотрудница
ЧК. Впрочем, после более близкого и продолжительного с ней общения поэт
понимает, что под маской преданной и жертвенной Бениславской таится
неуравновешенная, ревнивая и лживая женщина, а ее любовь такая же душная и
цепкая, как и чувства Дункан.
Галя с ранних лет страдала неврастенией, а ее
мать и вовсе закончила свои дни в больнице для умалишенных. Есенин никогда не
давал ей надежды на ответную любовь, но она все упорнее и упорнее просила его
обратить на нее внимание, угрожая, что больше так не выдержит. Она считала, что
ее помощь и самоотречение Есенин не оценил должным образом. В своем дневнике она
писала: «Я думала, ему правда нужен настоящий друг, человек, а не собутыльник…
Думала, что для него есть вещи ценнее ночлежек, вина и гонорара. А теперь
усомнилась… стоил ли Сергей того богатства, которое я так безрассудно
затратила». Будучи знакомой с поэтом еще до его поездки заграницу, Бениславская
очень тяжело переживала его отношения с Дункан – несколько раз у нее случались
периоды страшной депрессии, о которых она также пишет в своих воспоминаниях:
«Сначала, первые два дня, было легче – как зуб вырвали – болела только ранка, но
не зуб. Но, видно, зуб очень больной – ранка не заживет, а, наоборот, началось
воспаление, боюсь гангрены. Никакие средства не помогают. И что ужасно –
вставить обратно нельзя, органического зуба больше не будет, можно заменить
искусственным…».
Вскоре отвергнутая Галя, никогда не привлекавшая поэта как
женщина, но с которой он, тем не менее, близко сошелся, начинает ему мстить и
изменяет с его друзьями. Когда Есенин был на Кавказе, у нее «вспыхивает чувство
ко Льву» (в своих записях она не называет фамилию, но некоторые исследователи
уверены, что речь идет о романе со Львом Седовым, сыном Троцкого).
Поэт
пробыл в Тифлисе, Батуми и Баку до февраля 1925 года. В этот период он много и
плодотворно работал: «Только одно во мне сейчас живет. Я чувствую себя
просветленным, не надо мне этой глупой шумливой славы, не надо построчного
успеха. Я понял, что такое поэзия… Я скоро завалю Вас материалом. Так много и
легко пишется в жизни очень редко. Это просто потому, что я один и сосредоточен
в себе. Говорят, я очень похорошел. Вероятно, оттого, что я что-то увидел и
успокоился».
Призрак Дункан продолжал преследовать Есенина и после разрыва.
Так, будучи в Тбилиси, он узнал от своих друзей, что танцовщица приехала в город
на гастроли и с минуту на минуту будет здесь. В ту минуту поэт побледнел и стоял
как громом пораженный. Он бросился в свою комнату, в один миг покидал все свои
вещи в чемоданы и выбежал на улицу. За ним понеслись его ошеломленные приятели,
кричавшие вслед, что они пошутили, и Дункан не приедет сюда, хотя она и вправду
в Тбилиси. Он не сразу остановился. Видимо, не сразу поверил в то, что это шутка
– настолько глубоко в нем сидел страх встречи с ней. И все равно после этого
случая Есенин каждый раз вздрагивал и оборачивался, нервно и беспокойно
вглядываясь в проем, когда открывалась дверь или кто-то стучал. Он готов был
бежать на край света, лишь бы не встретиться с ней.
10 марта 1925 года Есенин
в доме у Бениславской познакомился с Софьей Толстой – внучкой Льва Николаевича.
Тогда Толстая встречалась с Борисом Пильняком. Ему в тот вечер нужно было раньше
уйти, а она осталась. Провожал ее до дома Есенин. Вернувшись, он лукаво
улыбнулся и сказал: «Надо поволочиться. Пильняк за ней ухаживает, а я
отобью».
В марте Есенин и Толстая начинают встречаться. Проведя как-то ночь в
ее квартире вместе со своими друзьями, он оставил ей в альбоме
стихи:
Никогда не забуду я ночи,
Ваш прищур, цилиндр мой и
диван,
И как в вас телячьи пучил очи
Всем знакомый Ванька и
Иван.
Никогда над жизнью не грустите.
У нее корявых много
лап.
И меня, пожалуйста, простите
За ночной приблудный пьяный
храп.
Спустя некоторое время Есенин узнал о романе Гали на стороне. Всегда
отметавший слухи о том, что она является сотрудницей ГПУ, Есенин решает теперь
порвать с ней и переезжает к Василию Наседкину – жениху своей сестры Кати. Кроме
того, разрыву с Бениславской способствуют и начавшиеся ухаживания за
Толстой.
В июне состоялась скоропалительная помолвка поэта и внучки великого
писателя. Есенин не любил Толстую, но надеялся в ее лице обрести устроенный быт,
уют, заботу, свой угол и семейное пристанище. За всю свою недолгую жизнь Есенину
так и не удалось заиметь свой угол – даже все его личные вещи и рукописи
хранились то у одних знакомых, то у других. Не в последнюю очередь Есенину
льстила мысль о том, что он породнится с потомком самого Толстого. Он не раз
хвастался перед друзьями: «Сергей Есенин и Софья Толстая, внучка Льва Толстого!
Каково звучит?!».
Перед помолвкой, как водится, устроили мальчишник. Есенин
напился и многие приглашенные друзья стали свидетелями его душевных метаний. Вот
что писал Ю. Либединский:
– Не выйдет у меня ничего из женитьбы! –
сказал он.
– Ну, если ты видишь, что из этого ничего не выйдет, так
откажись, – сказал я.
– Нельзя, – возразил он очень
серьезно. – Ведь ты подумай: его самого внучка! Ведь это так и должно быть,
что Есенину жениться на внучке Льва Толстого, это так и должно
быть!
– Так должно быть! – повторил он. – Да чего уж там
говорить, – он вытер слезы, заулыбался, – пойдем к
народу!
Казалось, что Есенин женится только потому, что принял такое решение
– что надо уже успокоиться, бросить якорь…
Вечером «мальчишник» продолжили на
квартире поэта Савкина, имажиниста. Как вспоминал Б. Соколов: «Сергея оберегали
– не давали ему напиваться… Вместо вина наливали в стакан воду. Сергей чокался,
пил, отчаянно морщился и закусывал – была у него такая черта наивного,
бескорыстного притворства. Но веселым в тот вечер Сергей не был.
Сергей, без
пиджака, в тонкой шелковой сорочке, повязав шею красным пионерским галстуком,
вышел из-за стола и встал у стены. Волосы на голове были спутаны, глаза
вдохновенно горели и, заложив левую руку за голову, а правую вытянув, словно
загребая воздух, пошел в тихий пляс и запел:
Есть одна хорошая песня у
соловушки —
Песня панихидная по моей головушке.
Цвела –
забубенная, росла – ножевая,
А теперь вдруг свесилась, словно
неживая.
Думы мои, думы! Боль в висках и темени.
Промотал я
молодость без поры, без времени.
Как случилось-сталось, сам не
понимаю,
Ночью жесткую подушку к сердцу прижимаю…
Пел он так, что
всем рыдать хотелось. Всем стало не по себе. Писатель Касаткин украдкой вытер
слезы, потом встал и пошел в соседнюю комнату. А Сергей, медленно приплясывая,
продолжал:
Пейте, пойте в юности, бейте в жизнь без
промаха,
Все равно любимая отцветет черемухой.
Я отцвел, не
знаю где. В пьянстве, что ли? В славе ли?
В молодости нравился, а
теперь оставили.
Потом, оборвав песнь, Сергей схватил чей-то стакан с вином и
залпом выпил.
После этого затихли писательские разговоры, за окном встало
солнце, и многие начали расходиться. Осталось совсем немного народу. И я никогда
не забуду расставания. На крылечке дома сидел Сергей Есенин, его ближайшие
друзья Касаткин и Наседкин и, обнявшись, горько плакали. За дверью калитки
стояла Софья Андреевна в пальто и ожидала… Через несколько часов нужно было
ехать на вокзал.
Я подошел к рыдающим друзьям и взял одного из них за
плечо.
– Нужно идти. Сергею скоро ехать.
На меня поднял заплаканное
лицо один из них и серьезно сказал:
– Дай еще минут пятнадцать
поплакать…
Прощаясь, Сергей судорожно всех обнимал и потом, пока не скрылся
за переулком, оборачивался и посылал приветы…»
По воспоминаниям еще одного
своего друга и ученика Эрлиха Есенин перед помолвкой привел его в квартиру
Толстой. Они вышли на балкон. На лице Есенина играла «полубезумная и почти
торжествующая улыбка». На небе алел «непривычно багровый и страшный» закат.
Зажав в зубах папиросу, Есенин тогда сказал:
– Видел ужас?… Это – мой
закат… Ну, пошли! Соня ждет…
После помолвки Есенин переезжает в Померанцев
переулок в квартиру Толстой, напоминавшей, скорее, литературный музей. Комнаты
были очень темные и мрачные, с громоздкой старинной мебелью и длинными галереями
портретов родичей. Есенину в квартире жены было неуютно, все кругом напоминало о
«великом старце», а атмосфера царила важная и чопорная. Он стал работать по
ночам. Вскоре Есенин уже жаловался на засилье Толстого в доме: «Надоела борода!
Уберите бороду!.. Скучно!.. Раз борода, два, три, а тут – не меньше десятка!
Надоело! К черту!».
Брак с Толстой начинает поэта тяготить – все, о чем он
мечтал «идет прахом». Ему снова хочется сбежать куда-нибудь. Он часто не ночует
дома. В одну из ночей Толстая узнала, что он изменил ей. Есенин много пьет и
иногда исчезает на несколько дней. Так, в июле Толстая записала в своем
календаре:
«18 июля. Суббота. Одна.
19 июля. Воскресенье. Дура.
20 июля.
Понедельник. Дура.
21 июля. Вторник. Дура.
22 июля. Среда. Дура.
23
июля. Четверг. Дура.
24 июля. Пятница. Совсем сумасшедшая.
Пять дней
ничего не соображала».
В июле молодые уехали в Мардакяны – пригород Баку. Первые дни отдыха прошли
замечательно, но затем Есенин снова взялся за старое. Толстая в письме Наседкину
писала: «Изредка, даже очень редко Сергей брал хвост в зубы и скакал в Баку, где
день или два ходил на голове, а потом возвращался в Мардакяны зализывать раны. А
я в эти дни, конечно, лезла на все стены нашей дачи, и даже на очень высокие.
Как Сергей себя чувствует душой и телом, очень мне трудно сказать. Выглядит он,
кажется, немножко лучше. А вообще он квеленький и у меня за него сердце болит,
болит».
В один из дней Толстой пришлось вызволять Есенина из милицейского
участка: он шел пьяный по улице и ухватил какую-то собачонку, заявив ее
владелице, что пойдет с ней гулять. Возмущенная женщина подняла визг – сбежались
зеваки и милиционеры, а Есенина, брыкающегося и матерящегося, доставили в
камеру. Через день благодаря знакомствам и связям его выпустили. Все эти выходки
не мешали поэту плодотворно работать. В начале сентября он получил телеграмму о
необходимости ускорить работу над рукописями для готовящегося «Собрания
сочинений», и тут же принял решение уехать.
Есенин и Толстая возвращаются в
Москву. 18 сентября состоялось их бракосочетание. Регистрация прошла обыденно –
друзей не приглашали. Печать в документах никак не повлияла на течение семейной
жизни Есенина и Толстой: он все также уходил в запои, а в перерывах много
работал. По свидетельствам сестры поэта, он стал крайне раздражителен и часто
срывался на Толстой. Есенина бесила нехозяйственность Софьи – в доме подчас не
было чистых носовых платков и починенных носков. И хотя Толстая помогала ему в
работе, он все чаще и чаще стал груб с ней и чаще уходил из дома. Однажды он
обратился к Бениславской, чтобы та нашла ему комнату и он съехал с квартиры в
Померанцевом переулке, уже даже был внесен задаток, но Толстая, узнав об этом,
уговорила поэта не уезжать.
Несчастливая семейная жизнь накладывалась и на
неудачи в работе – Есенина очень огорчало и мучило, что критики его произведений
не замечали – за полгода на «Анну Снегину» не появилось ни одной рецензии! Он
решает издавать собственный литературный журнал, Софья его в этом всячески
поддерживает.
Участившиеся запои, когда Есенин бывал трезвым по 3–4 дня в
неделю, вынудили Толстую поговорить с ним о возможном лечении. Ему предлагалось
несколько вариантов отдыха в санатории, но поэт отказывался.
Его здоровьем
уже заинтересовались и советские власти. В конце октября с письмом к Ф. Э.
Дзержинскому обратился Х. Г. Раковский, только что назначенный Послом России во
Франции:
«Дорогой Феликс Эдмундович! Прошу Вас оказать нам содействие – Воронскому и
мне, чтобы спасти жизнь известного поэта Есенина – несомненно, самого
талантливого в нашем Союзе. Он находится в очень развитой стадии туберкулеза
(захвачены оба легкие, температура по вечерам и пр.). Найти куда его послать на
лечение нетрудно. Ему уже предоставлено было место в Надеждинском санатории под
Москвой, но несчастье в том, что он вследствие своего хулиганского характера и
пьянства не поддается никакому врачебному взаимодействию. Мы решили, что
единственное еще оставшееся средство заставить его лечиться – это Вы. Пригласите
его к себе, проберите хорошенько и отправьте вместе с ним в санаториум товарища
из ГПУ, который не давал бы ему пьянствовать. Жаль парня, жаль его таланта,
молодости. Он много еще мог дать не только благодаря своим необыкновенным
дарованиям, но и потому, что, будучи сам крестьянином, хорошо знает крестьянскую
среду.
Х. Раковский».
Получив письмо 25 октября
1925 года, Ф. Э. Дзержинский передал его секретарю с резолюцией:
«г. Герсону. М. б. Вы могли бы заняться.
Ф.
Д.».
Секретарь стал искать Есенина, но не смог найти.
29 октября 1925 года
Есенина вызвали в 48-е отделение милиции Москвы, где он давал показания о
происшедших событиях в поезде 6 сентября 1925 года, когда он возвращался из Баку
в Москву и в нетрезвом виде устроил скандал, чуть не подравшись с дипкурьером А.
Рога. Поэт дал подписку о явке в суд по первому требованию. Он попытался уладить
это дело, обратившись за помощью к наркому А. В. Луначарскому и другим
авторитетным друзьям, но ничего не помогло. Толстая предложила Есенину лечь в
больницу, так как лиц, находившихся на лечении, не имели права судить. 26 ноября
1925 года поэт оказался в клинике Московского университета под наблюдением
профессора П. Б. Ганнушкина. Есенин все чаще просит Толстую не навещать его, а в
декабре заводит речь о разводе.
14 декабря Есенин выбрался из клиники на один
день. Между ним и Софьей произошел очередной неприятный разговор, после чего
Толстая передала ему в клинику записку: «Сергей, ты можешь быть совсем спокоен.
Моя надежда исчезла. Я не приду к тебе. Мне без тебя очень плохо, но тебе без
меня лучше. Соня».
21 декабря 1925 года Есенин покинул клинику, аннулировал в
Госиздате все доверенности и простился с друзьями. В эти же дни он зашел и к
своей первой жене – Анне Изрядновой. На ее вопрос: «Что? Почему?» ответил:
«Смываюсь, уезжаю, чувствую себя плохо, наверное, умру». Навестил и простился с
детьми от Зинаиды Райх.
23 декабря Есенин уехал в Ленинград с намерением
начать новую жизнь там. Своему ученику Эрлиху он послал телеграмму с просьбой
найти комнаты, сам же остановился в гостинице «Англетер».
Через пять дней, 28
декабря, утром, в номере отеля Есенин был найден повесившимся на трубе парового
отопления. Через все лицо его проходил страшный багровый след – вероятно, след
от трубы. Многие очевидцы утверждали, что правая рука поэта была неестественно
скрюченной, как будто бы он хотел освободиться от петли. Все это наводило
некоторых современников на версию об убийстве поэта и инсценировке
самоубийства.
Накануне Есенин передал Эрлиху стихотворение, написанное
собственной кровью:
До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый
мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает
встречу впереди.
До свиданья, друг мой, без руки, без
слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни
умереть не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
Глава 24
Навстречу любви…
Весть о смерти Есенина Дункан получила в Париже. Она обратилась в газеты с
письмом: «Известие о трагической смерти Есенина причинило мне глубочайшую боль.
У него была молодость, красота, гений.
Неудовлетворенный всеми этими дарами,
его дерзкий дух стремился к недостижимому, и он желал, чтобы филистимляне пали
пред ним ниц. Он уничтожил свое юное и прекрасное тело, но дух его вечно будет
жить в душе русского народа и в душе всех, кто любит поэтов.
Я категорически
протестую против легкомысленных и недостоверных высказываний, опубликованных
американской прессой в Париже. Между Есениным и мной никогда не было никаких
ссор, и мы никогда не были разведены. Я оплакиваю его смерть с болью и
отчаянием. Айседора Дункан».
Дункан очень тяжело переживала смерть поэта.
Своей приемной дочери Ирме она написала: «Я рыдала о нем много долгих часов,
сколько могла… Сейчас у меня полоса сплошных страданий и невзгод, поэтому меня
часто посещает искушение последовать его примеру. Только я уйду в
море».
После разрыва с Есениным Дункан продолжала гастролировать по советской
России. В начале 1924 года она выступила в Киеве и Харькове, затем последовало
турне по Волге и Туркестану. Последнее ее выступление вместе с учениками
состоялось в конце сентября в Большом театре, куда были приглашены 4 тысячи
пионеров и школьников. На концерте присутствовали и вожди большевистской партии.
30 сентября 1924 года Дункан уже была на борту самолета, летевшего в
Кенигсберг.
Слава Дункан меркла. Она уже не могла выступать как раньше, а ее
образ жизни и бесконечные траты на выпивку привели ее в плачевное состояние.
Сама он писала: «Я вишу на конце веревки… Я готова продать любовные письма,
адресованные мне, – это все, что у меня осталось, – у меня их не
меньше тысячи».
После смерти Есенина Дункан была признана судом единственной
женой поэта, поскольку официального развода не последовало, и поэт женился на
Толстой, будучи неразведенным. Дункан, как жене поэта, принадлежало право его
наследства, которое благодаря огромным переизданиям его книг в последний год,
достигло 300–400 тысяч франков. Наследственная тяжба длилась около двух лет.
Свои права отстаивала и вторая жена Есенина Зинаида Райх. В ноябре 1926 года
Дункан получила из Москвы извещение на получение денег, но, несмотря на то, что
она сильно нуждалась, а ее дом в Нью-Йорке из-за долгов был выставлен на
продажу, она отказалась от наследства в пользу родных поэта: матери и сестер,
сказав: «Отвезите их его матери и сестрам. Им они нужнее, чем мне».
Вскоре
Дункан переехала в Ниццу и там же в последний раз выступила публично. В тот
вечер она танцевала только немецкую музыку: незаконченную симфонию Шуберта,
траурный марш из «Гибели богов» и в заключение «Смерть Изольды».
На вечере
она встретилась с молодым русским пианистом Виктором Серовым. Он стал ее
последней любовью. Серов был моложе Айседоры на 15 лет. Она ревновала его также,
как и когда-то Есенина. Как-то вечером Серов прямо на ее глаза исчез в отеле под
руку с женщиной. Дункан напрасно кричала ему вслед, что покончит жизнь
самоубийством. Серов лишь вызывающе улыбался в ответ.
Тогда она пошла к морю.
С развевающимся шарфом на шее она вошла в воду. Подняв руки вверх, словно в
приветствии своей смерти, она погружалась в море все глубже и глубже. Ее
случайно заметил с берега английский офицер, который и вытащил полубезумную от
отчаяния танцовщицу. Придя в себя, она обвела взглядом целую толпу собравшихся
зевак и горько усмехнулась: «Не правда ли, какая прекрасная сцена для
фильма?!».
14 сентября 1927 года через год и девять месяцев после смерти
Есенина Дункан обедала в обществе своей давней подруги Мэри Дести и русского
кинематографиста Ивана Николенко. На ней был длинный пурпурный шарф с вытканными
солнечной птицей и лазоревыми цветами. Уходя из отеля на ужин с друзьями, Дункан
оставила записку своему тогдашнему любовнику Бенуа Фалькетто, владельцу гаража
«Гельвеция» в Ницце и разъезжавшем на очень популярном в то время во Франции
двухместном спортивном автомобиле Amilcar CGSS.
За обедом Дести внезапно
почувствовала себя плохо, и Дункан с Николенко пришлось ее увести. Когда они
переходили улицу к отелю, Мэри почувствовала вдруг что-то неладное и пыталась
отговорить Айседору от поездок этим вечером. Но Дункан ответила ей: «Даже если
бы я знала, что это станет моей последней поездкой, то велела бы гнать во весь
опор! Я снова влюблена!».
Когда к отелю подъехал Фалькетто на своем Amilcar,
Дункан спустилась вниз. Мэри выбежала за ней, умоляя ее надеть шаль или плащ,
так как на улице холодало, а Айседора была в платье с открытыми плечами. Но
Дункан отказалась, отшучиваясь, что вполне достаточно и шарфа. Мэри, все еще
терзаемая странными предчувствиями, обратилась к Фалькетто: «Вы не понимаете,
какую великую личность везете сегодня вечером. Умоляю вас, будьте осторожней…».
Айседора с улыбкой обмотала шарф вокруг шеи, поцеловала подругу и воскликнула –
«Прощайте друзья мои, я иду навстречу любви!».
Мэри еще не успела отойти, как
вдруг заметила, что бахрома шарфа Айседоры тянется по земле. Она закричала:
«Айседора, твоя шаль, твоя шаль!». Машина внезапно резко затормозила и
остановилась. Мэри услышала пронзительный крик Фалькетто: «Я убил Мадонну, я
убил Мадонну!». Подбежав, Мэри увидела, что голова Айседоры свешивается через
борт, накрепко стянутая шарфом.
Шарф Дункан намотался на заднее колесо, и
голова Айседоры ударилась о борт, лицо разбилось и было зажато, как в тисках.
Первый же оборот колеса сломал ей шею, повредив яремную вену и убив на месте.
Она даже не успела ничего понять. Вот уж воистину: одна душа на двоих…
Чтобы
забрать тело Дункан в морг, пришлось разрезать ее шарф ножницами. Собравшаяся
толпа зевак набросилась на шарф и растерзала его на клочки – есть поверье, что
веревка повешенного приносит счастье и долгую жизнь.
На похоронах Айседоры,
как она и просила раньше, исполнили «Арию» Баха.
*
http://bubluoteka.org/book/580982/
http://bubluoteka.org/zip/580982/
*